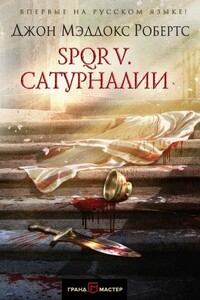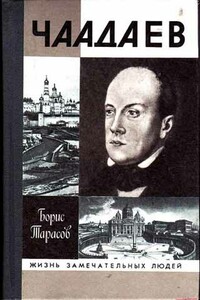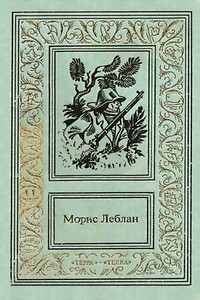События, о которых я хочу поведать, произошли так давно, что их невольным свидетелем мог быть разве что столетний дуб во дворе моей матери. В те времена, когда честь стоила дороже золота, а верность была основой добродетели, когда молодые люди краснели при упоминании о деньгах, а разговоры о любовных похождениях принимались за оскорбление в свой адрес, тогда никто не носил в своем сердце презренных мыслей, коими так пестрит наше время. Раньше люди не боялись, из-за опасности задеть чьи-то чувства, говорить прямо и открыто как того требовал долг. И даже если неосторожно брошенное слово возжигало благородную ярость и меч выступал мерилом достоинства, люди были преисполнены великой решимости ценой жизни отстаивать свои убеждения.
Я вспоминаю слова старого монаха:
«В наши дни все решается с помощью одних только слов. Никто не хочет брать на себя ответственность, каждый старается избежать острых углов. Прискорбно видеть как молодые люди увлечены погоней за материальными приобретениями. Стоит ли говорить, что лишь немногие из них дорожат своей честью. Старые традиции умирают на глазах. Можно сказать, что дух времени уходит безвозвратно».
Случилось так, что в силу обстоятельств в один из осенних вечеров я оказался у ворот монастыря расположенного в предгорье. Нужно сказать, что причинами послужили несколько вещей. Одной из них была извечная взбалмошность, с коей безуспешно старались совладать мои родители, прививая молодой голове основы морали и поведения. Я был дитя своего времени, когда за полвека обычаи изменились настолько, что если раньше разгульный образ жизни считался позором для семьи, то теперь же вызывал лишь снисходительную улыбку.
Потакая прихотям, я вчистую растратил отцовское содержание на обучение наукам и искусству, и забросив Конфуцианский университет, предался преходящим удовольствиям жизни. Будь у меня хоть малая доля честолюбия, я бы наверняка направил силы в сторону удовлетворения амбиций, занявшись карьерой. Но увы… Раздавая дары благоразумия, боги не включили меня в свой список. И таким образом, лишенный какой-либо определенной жизненной цели, я впустую проматывал дни.
Однако к счастью или к сожалению все когда-то заканчивается. Закончились и деньги, на некоторое время отрезвив голову. Спасением от угрозы нищего существования стала моя способность к каллиграфии[3].В виде заработка я стал переписывать древние рукописи, будучи благодарным знакомству с буддистским священником, который пристроил меня в один из монастырей в Эдо[4].
Поскольку конечной целью моих стараний были волшебные монеты дивным образом преображавшие суровую реальность, я поначалу не особо вникал в суть работы. Но здесь на сцену вышла вторая причина — любопытство. Время за трудами тянулось медленно и, чтобы как-то развлечь себя я стал более внимательно перечитывать старые рукописи. Рассказы о людях давно минувших дней странным образом будили воображение. Многое осталось для меня неясным, а некоторые поступки казались зачастую абсурдными. Создавалось впечатление, что предки настолько дорожили честью, что были готовы вскрыть живот из-за любого пустяка. Впрочем мое любопытство было поверхностным и носило, скорее, развлекательный характер. Глубинное понимание случается довольно редко и требует значительных усилий, открываясь не с первой попытки. А поскольку все мы довольно ленивы, я не утруждал себя более детальным разбирательством, вкушая удовольствие от общей героики сказаний.
Настоятель, оценив мое рвение в работе, обратился с просьбой о переписи нескольких книг в одной из обителей предгорья. Нельзя сказать, что известие о возможном путешествии обрадовало — дороги не были моей слабостью. Но выбирать не приходилось и, успокоив себя мыслью о возможности немного отвлечься от городской суеты, я направился в путь.
Спокойные осенние краски десятого месяца были обворожительны, наполняя душу благими мыслями. Вкусив увядающей красоты долин, тонущих в сизых утренних туманах и сосновых лесов, полных глубокой тишины, вечером третьего дня я прибыл в обитель. Настоятель оказал мне радушный прием, обеспечив всем необходимым для работы.
В силу того, что я питал склонность к ночным бдениям, по вечерам я имел обыкновение прогуливаться окрестностями. Монастырь находился вблизи горной цепи, в двух милях от ближайшей деревни и я мог спокойно поразмышлять в одиночестве. В одну из таких прогулок случай свел меня со старым монахом. Это был преклонных лет старик с глубоко посаженными глазами и выцветшей бородой. Линии морщин избороздили лицо во всех направлениях.
Я как раз грелся у наспех разведенного костра, когда гость с вязанкой дров вышел из леса.
— Да хранит вас Амида[5], — произнес старик с широкой улыбкой.
— Да хранит Амида всех нас, — ответил я на приветствие.