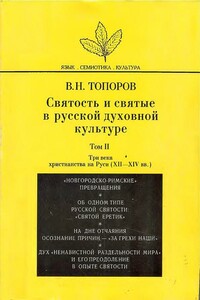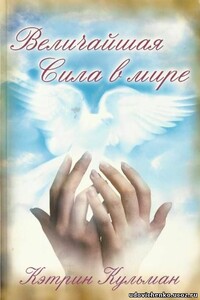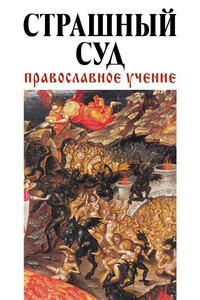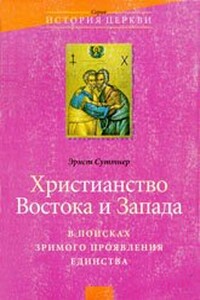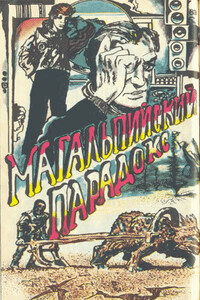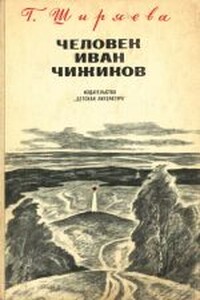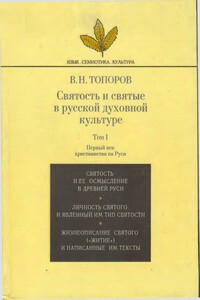Несколько предварительных разъяснений. При всей исключительности и знаковой отмеченности самых ранних встреч двух этноязыковых и культурных элементов здесь речь пойдет не о них, хотя в широкой культурно–исторической перспективе именно они образуют явление начала и составляют тот необходимый фон, без которого едва ли могут быть вполне адекватно и органически восприняты последующие встречи. Вообще определение «самый» в этих случаях обнаруживает черты не только некоей условности, но и сомнительности, хотя бы потому, что в глуби времен, в темные эпохи, еще не выхваченные светом истории, неизвестного заведомо больше, чем того, что чаще всего случайно стало известным. Но есть и другая, отчасти даже более кардинальная причина, делающая определение «самый ранний» в таких ситуациях крайне неточным. Такова именно ситуация встречи двух этнокультурных элементов, которые в ходе своего развития меняются, трансформируясь при этом в сущности иного ранга и статуса, часто сохраняя в этих испытаниях свои преемственные связи генетического характера, причем эти изменения происходят нередко с различной скоростью.
Собственно говоря, едва ли корректно говорить о русско–итальянских связях до конца I тысячелетия н. э., когда только и можно впервые по сути дела и с достаточной уверенностью говорить о русских и итальянцах как таковых. Разумеется, это не снимает вопроса о связях исторических предшественников русского и итальянского элементов, хотя бы уже потому, что и тот и другой через ряд промежуточных стадий восходят к единому и общему источнику — индоевропейскому, его языку и культуре. Разумеется, на этом хронологическом уровне для исследователя «несть ни русского, ни итальянского», но, интересуясь «русским», «итальянским» и «связями» между ними в их «началах», он не может пренебрегать задачей становления всех этих трех явлений, т. е. филиации их из единого источника, превращения одного общего в два разных, проверки наличия «вторичной», т. е. не генетической, связи (собственно, только такая «свободная» и лишь культурно–историческими обстоятельствами определяемая связь и заслуживает названия связи). Но и позже, в эпохи, когда исходное единство нарушилось и черты розности уже, несомненно, присутствовали, допустимо предполагать, существовали такие реальные ситуации, когда отдаленные предки этих двух этносов могли входить во взаимные контакты. Возможно, такая ситуация существовала в Центральной Европе во 2–й половине II – начале I тысячелетия до н. э., когда предки тех и других жили в близком соседстве, подтверждаемом, видимо, и данными языковых заимствований. Другая сходная ситуация могла возникнуть с начала нашей эры, когда римское господство распространялось на те пределы, которые были смежны с ареалом праславянских племен или даже отчасти были населены ими (и в этом случае пласт латинских заимствований в праславянском подтверждал бы реальность прямых контактов; кстати, именно в это время римские авторы впервые упоминают племена, отождествляемые с раннеславянскими объединениями). Подобная ситуация продолжается отчасти и позже, обретая все более конкретные черты. В этот последний период (1–я половина I тысячелетия н. э. и, вероятно, кое–где и далее) встречи романско–латинского и праславянского элементов могли осуществляться и в самом Древнем Риме (славяне–рабы), и в разных местах Римской Империи, которая на своей периферии подступала к местам расселения отдельных праславянских племен (Паннония, Дакия и др., ср. также «Великий янтарный путь» по Висле к южному побережью Балтийского моря). Особый интерес в этом отношении представляет присутствие римской власти на северном побережье Черного моря между устьями Днестра и Днепра — Тирас и Ольвия — и на самом море, где римский флот осуществлял контроль и охрану от морских разбойников; следует напомнить, что в Крыму было Боспорское царство, находившееся под римским протекторатом и принявшее у себя римский гарнизон, подчиненный наместнику Мезии, и что Северное Причерноморье довольно рано стало известно и доступно восточным славянам (во всяком случае отдельным племенным группам или инициативным людям, искавшим именно здесь контактов с другими народами Средиземноморья).
[Позже «римско–латинский» элемент в Причерноморье, прежде всего в Крыму, был сменен итальянским. Его расцвет совпадает с разгромом генуэзцами венецианского флота при Курцоле в 1296 г., когда ими были основаны в Крыму торговые фактории Кафа, Балаклава, Солдайя, ставшие важными центрами торговли, в частности, и с Русью, а закат начинается после поражения генуэзского флота от венецианцев в сражении при Кьодже в 1380 г. (правда, в Крыму появляются венецианцы со своими факториями, проникающие, впрочем, и существенно дальше к северо–востоку — фактория Тана [Азов] на Азовском море) и приобретает роковое значение после 1475 г., когда Мухаммед II разгромил Кафу, большая часть итальянского населения покинула Крым ради Аккермана и Черкессии, другие были вывезены в Константинополь, третьи остались на месте, но перешли в православие, на греческий обряд, поскольку их жены были обычно гречанками (ср. Dortelli d'Ascoli Emidio — «Descrittione del Mar Negro e della Tartaria», 1634), и в конце концов растворились в греческом, а позже отчасти и в русском населении. Однако с конца XVIII в. начинается новая волна массовой иммиграции итальянцев в Крым и в Северное Причерноморье, продолжавшаяся и в XIX в.]