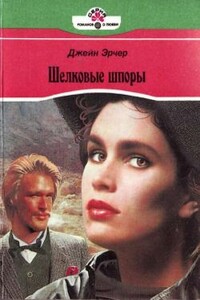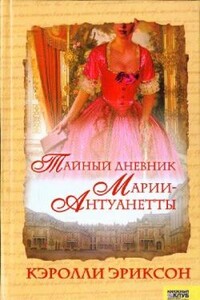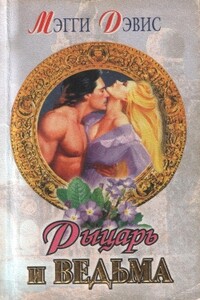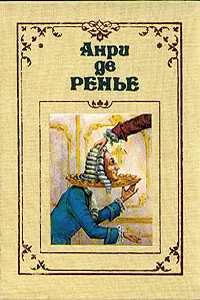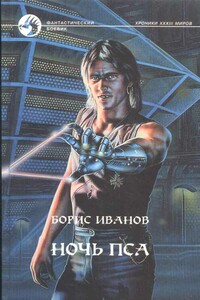Небо давало только слабое ощущение света, в рубке лоцмана яркий фонарь с увеличительной линзой освещал двадцать делений компаса, но в такую ночь было трудно вести судно. Тучи нависли подобно тяжелым завесам, неподвижные от тяжести непролившегося дождя. Знакомые ориентиры вдоль извилистого речного фарватера едва различались. Низкий, громоздкий пароход двигался, как казалось, в пустом пространстве.
Трое из четырех пассажиров, находившихся на борту «Южной Каролины», заранее предвкушали поездку при лунном свете по рекам, стекающим к берегу Джорджии, от Дэриена до острова Сент-Саймонс, и потом на юг, до Сент-Мэри, на границе Флориды. Три разговорчивых пассажира — двое мужчин и одна женщина — совершенно спокойно примирились с необходимостью ждать более двух часов, пока прилив поднимет судно с песчаной отмели, на которую оно наскочило по выходе из дока в Дэриене. Когда они сели на пароход в три часа, яркое солнце стояло высоко в ровном голубом небе жаркого августовского дня. Все понимали, что стемнеет задолго до того, как они доберутся до острова Сент-Саймонс, находившегося на расстоянии примерно двадцати морских миль; но в такую ясную летнюю погоду плоские пространства по берегам при полной луне превратятся в сказочное зрелище.
Четвертый, казалось, не предвкушал ничего, и даже во время долгого ожидания на песчаной отмели остальные пассажиры вынуждены были отказаться от попыток втянуть его в общий разговор.
Был уже седьмой час, когда пароход смог наконец двинуться по узкому ходу через Дженералз-Кат в несколько более широкую реку Батлер. И даже несмотря на большую вероятность дождя, трое оптимистически настроенных пассажира ожидали, что погода прояснится перед тем, как выйдет луна. Однако небо покрылось тучами, и когда пароход прошел через Вуд-Кат и повернул в красную воду Южной Олтамахо, лоцман, команда и пассажиры устроились так, чтобы по возможности наименее неприятно провести время, пока пароход шел своим медленным, небезопасным курсом темной полутропической ночью, то огибая, то проплывая между огромными кипарисами, стоявшими в русле реки подобно мрачным статуям.
В маленькой каюте для пассажиров, юный Хорейс Банч Гульд сидел, сгорбившись, на одной из деревянных скамеек. Он предпочел бы сидеть в темноте, не только потому, что хотелось покоя, но и потому, что хорошо знал местность, и ему достаточно было посмотреть на проплывающие мимо окрестности, чтобы определить, сколько времени ему отпущено на передышку. Из освещенной каюты он время от времени видел кипарисы в реке и знал, что они плывут по Южной Олтамахо. Он услышит крики матросов, когда будут промерять глубину реки над предательскими мелями примерно в миле от начала пролива Баттермильк. Из пролива они войдут в реку Фредерика, и менее чем через два часа он будет дома на острове Сент-Саймонс и будет вынужден рассказать отцу эту неприглядную историю. Он считал, что проявил слабохарактерность, решив поехать домой сразу после неприятностей; из-за этого ему придется оправдываться, когда он встретится лицом к лицу с человеком, которого и уважал и боялся. Боялся? Это слово потрясло его. Разве он мог бояться высокого, худощавого человека с печальными глазами, который всегда был в равной степени добрым и твердым? Или он боялся, что, встретясь с отцом, он впервые почувствует себя виноватым?
Он нервно вертелся на неудобной скамейке, повернувшись спиной к другим, делая вид, что смотрит в маленький иллюминатор каюты. Он думал, что если действительно существует Бог, определяющий взаимоотношения людей, то он пришел к чрезвычайно странному решению по поводу родителей и их потомства. Если сын попал в скверное положение, то мало того, что ему надо нести свое собственное бремя, ему приходится еще волноваться об отце. Из одной проблемы получаются две… С легким чувством стыда, впервые с тех пор, как уехал из дома, он страстно пожелал, чтобы у него была мать. Его молоденькая, веселая, хорошенькая мать-англичанка. Когда ему было шесть лет, она уехала в Саванну лечиться, да так и не вернулась. Она внезапно умерла в ту неделю, когда они ждали ее домой, а из-за урагана оказалось невозможным перевезти тело назад на остров Сент-Саймонс, и ее похоронили на кладбище в Саванне.
Он продрог, несмотря на сырую, обволакивающую жару, и достал свой плащ; ему стало стыдно, что руки у него тряслись, но некоторым облегчением было то, что остальные пассажиры казались слишком заняты своим пустым разговором, чтобы тратить внимание на него. Да и, в конце концов, ему только восемнадцать лет. Он учился в обществе своих однолеток далеко от дома и овладел умением ставить барьер между собой и старшими. Он был вежлив с ними, но, когда учился на первом курсе, во время первого студенческого мятежа утратил уважение к взрослым — почти всем, за исключением отца и Джеримайя Дея, ректора Йельского университета. Но даже доктор Дей оказался неспособным понять точку зрения студентов во время последних беспорядков, и Хорейс в душе также вычеркнул его.
Он натянул плащ на уши, пытаясь отключиться от идиотской болтовни тучного, невежественного плантатора из Сент-Мэри и двух других пассажиров неопределенного вида. Ему была нужна тишина, чтобы обдумать, что он скажет отцу и его раздражали резкие, шероховатые нотки в голосе толстяка, говорившие о неумеренном потреблении виски. Слава Богу, они не обитатели Сент-Саймонса. С ними можно не церемониться. Ни один из них не поинтересуется, почему он едет домой из университета за два года до окончания. Этот плантатор с тяжелой челюстью имел право говорить — он тоже заплатил за проезд. Но то, что он говорил, уже вызывало отвращение у Хорейса, хотя до времени, которое он провел в Йельском университете, это может быть не вызвало бы у него никакой реакции.