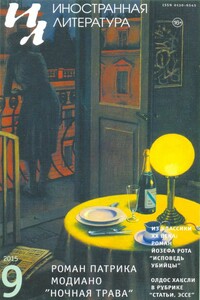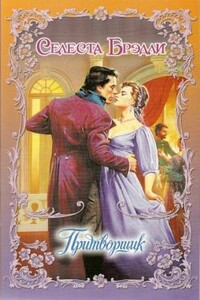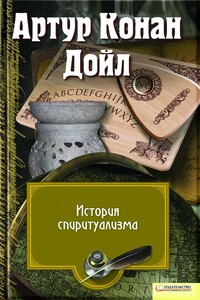В Неаполе, где я находился в 1824 году, я слышал, как в обществе упоминали об истории Suora Scolastica[1] и каноника Чибо. Я был тогда очень любопытен, и легко можно представить себе, с какой жадностью я стал всех об этом расспрашивать. Но никто не захотел мне толком ответить: все боялись себя скомпрометировать.
В Неаполе никогда не говорят сколько-нибудь ясно о политике. Причина этому следующая: неаполитанская семья, состоящая, например, из трех сыновей, дочери, отца и матери, принадлежит к трем различным партиям, которые в Неаполе называются лагерями заговорщиков. Так, дочь примыкает к партии своего возлюбленного; каждый из сыновей принадлежит к какому-нибудь другому лагерю; отец и мать, вздыхая, говорят о дворе того государя, который царствовал, когда им было двадцать лет. Из-за этой разобщенности о политике никогда не разговаривают серьезно. При малейшем сколько-нибудь резком и выходящем за пределы общих мест утверждении вы видите, как лица двух или трех присутствующих начинают бледнеть.
Так как мои расспросы в обществе по поводу этого рассказа с причудливым названием остались безуспешными, я решил, что история Suora Scolastica напоминает какое-нибудь ужасное происшествие, случившееся, например, в 1820 году.
Одна сорокалетняя вдова, некрасивая, но очень славная женщина, сдавала мне половину своего домика, расположенного в переулке, в ста шагах от очаровательного сада Кьяйя, у подножия горы, увенчанной виллой супруги старого короля, княгини Флориды. Это, пожалуй, единственный более или менее спокойный квартал Неаполя.
У вдовы был старый поклонник, за которым я ухаживал целую неделю. Однажды, когда мы вместе бродили по городу и он показывал мне те места, где лаццарони дрались против войск генерала Шампионе[2], и перекресток, где заживо сожгли герцога ***, я внезапно с простодушным видом спросил моего спутника, почему делают такую тайну из истории Suora Scolastica и каноника Чибо.
Он спокойно ответил мне:
— Титулы герцога и князя, которые носили участники этой истории, носят и в наше время их потомки; может быть, им будет неприятно видеть свои имена замешанными в столь трагической и прискорбной для всех истории.
— Разве дело происходило не в 1820 году?
— Как вы сказали? В 1820 году? — воскликнул мой неаполитанец, расхохотавшись оттого, что я назвал столь недавнюю дату. — Как вы сказали? В 1820 году? — повторил он с той малоучтивой итальянской живостью, которая так шокирует парижанина. — Если уж на то пошло, скажите: в 1745 году, через год после битвы при Веллетри, упрочившей за нашим великим доном Карлосом[3] обладание Неаполем. В этом государстве его называли Карлом VII, а впоследствии, в Испании, где он совершил столько великих дел, его именовали Карлом III. Это от него наш царствующий дом унаследовал большой нос семьи Фарнезе.
«В наше время предпочли бы не называть настоящим именем архиепископа, который приводил в трепет всех жителей Неаполя, пока его, в свою очередь, не повергло в ужас роковое слово «Веллетри». Немцы, засевшие на горе вокруг Веллетри, пытались захватить врасплох нашего великого дона Карлоса в палаццо Джинетти, где он жил.
«Считают, что повесть, о которой вы говорите, написана одним монахом. Молодая послушница, именуемая Suora Scolastica, принадлежала к семейству герцога де Биссиньяно. Сам автор обнаруживает страстную ненависть к тогдашнему архиепископу, искусному политику, который поручил все это дело канонику Чибо. Быть может, этому монаху оказывал покровительство дон Дженнарино из рода маркизов де Лас-Флорес, о котором ходила молва, что он оспаривал сердце Розалинды у самого дона Карлоса, весьма галантного короля, и у старого герцога Варгаса дель Пардо, слывшего самым богатым вельможей своего времени. Рассказ об этих ужасных событиях содержал, наверно, такие подробности, которые могли глубоко оскорбить какое-нибудь лицо, еще очень влиятельное в 1750 году, когда, как полагают, писал этот монах, ибо он тщательно избегает ясных выражений. Его пустословие удивительно; он все время высказывает общие положения, высоконравственные, конечно, но ничего не говорящие. Часто приходится закрывать рукопись, чтобы подумать над тем, что же хотел сказать почтенный отец. Так, например, когда он доходит до описания смерти дона Дженнарино, с трудом можно понять, что он хотел сообщить.
«Может быть, я сумею через несколько дней раздобыть вам на время эту рукопись, ибо она до такой степени невыносима, что я бы не советовал вам покупать ее. Два года назад в конторе нотариуса Б. ее продавали не дешевле четырех дукатов».
Неделю спустя я получил эту рукопись, пожалуй, самую невыносимую на свете. Автор поминутно повторяет в других выражениях рассказ, который он только что окончил, а несчастный читатель думает, что автор хочет сообщить какие-то новые подробности. В конце концов получается такая невообразимая путаница, что уже не представляешь себе, о чем идет речь.
Надо иметь в виду, что в 1842 году миланец или неаполитанец, за всю свою жизнь не произнесший на флорентийском наречии и ста слов подряд, считает нужным пользоваться этим чужим наречием, когда он пишет для печати. Почтенный генерал Коллетта, величайший историк нашего столетия, в известной степени страдал этой манией, часто мешающей его читателю.