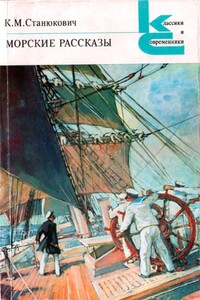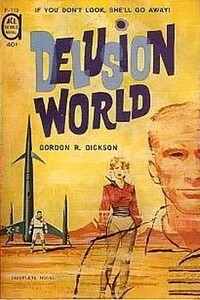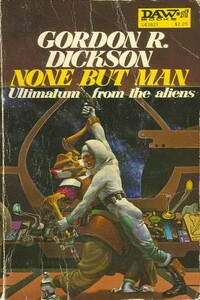После скучного зимнего переезда прибыл я в чувашскую деревеньку, где приходилось ночевать. Избушки, казалось, вросли в землю; их так занесло сугробами снега, что проезжие, без малейшего преувеличения, глядели с дороги в крестьянские дворы как с горы в пропасть и легко могли бы вывалиться из саней, через тын или кровлю на такой крестьянский двор. Дым валил из труб тут и там из-под снега, и я невольно припоминал сказочные предания о затопленных деревнях с церквами.
Меня привезли, по указанию, в лучшую избу. Кому случалось гостить у чуваш, тот знает, что такое лучшая чувашская изба: это курная русская избенка, во всех отношениях худшая из дурных. Хозяин хотел мне подать так называемого квасу, пошел его искать под лавкой, достал оттуда деревянную чашку и подал ее мне: я ему указал на плававшую в квасу мертвую мышь; он взглянул, выкинул ее пальцами под лавку, поставил чашку к стороне и пошел, чтобы мне зачерпнуть квасу в другую посудину. "Не трудись,-- сказал я ему, -- не надо; да скажи, пожалуй, для чего же ты не выплеснешь из чашки этот квас? Нешто ты станешь его пить?" "Ничего,-- отвечал он,-- слепая отец на печи есть, она выпьет".
Мне хотелось есть и пить, и я, по обыкновению путников, потребовал молока или яиц. Последние хоть тем хороши, что их нельзя опоганить. Хозяин сказал что-то хозяйке, почесался, подумал и объявил, что молока и яиц нет. Я не хотел верить, чтобы в деревне нельзя было достать того или другого, и потому настаивал, хозяин уверял, что скотина пала еще с осени, а курицы давно перевелись от постоев. После долгих настояний и уговоров он объявил, что у одного только мужика есть дойная корова, прочие все отказались после чумы, но что он сомневается, можно ли будет достать у этого мужика молока, и прибавил, когда уже выходил из избы: "Нам туда нельзя ходить". Хозяйка не могла или не хотела мне объяснить этого выражения, и я поневоле выждал возвращения хозяина с каким-то парнем: его пошли, сказал мне первый. Я дал ему денег и наконец завладел кринкою молока. Наевшись и закурив трубку, я разговорился с хозяином, поподчивал его табаком и, вспомнив слова его, спросил объяснения, почему де вам нельзя туда ходить? Он улыбался, почесывался, молвил что-то хозяйке, которая засмеялась, и на повторенный вопрос мой отвечал только: "Так, что нельзя, мы вишь не друг". Это еще более завлекло мое любопытство, и я не отстал от чувашина, покуда он мне не рассказал, в чем дело.
Есть народы, например китайцы и японцы, у которых самоубийство нипочем; трус по себе, китаец или японец, однако же, будучи по своим понятиям обесчещен, поруган, считает долгом вспороть себе брюхо. Уверяют даже, что они делают это иногда, вместо поединка, назло друг другу: если обиженный распорет себе живот, объявив при том имя своего обидчика, то этот обязан последовать его примеру: таков обычай, а обычай сильнее закона. Нечто похожее встречается у чуваш, хотя, может быть, не в той мере и не в таком общем распространении.
Чулка, отец того хозяина, у которого взято было теперь молоко, был негодяй и воришка. Попавшись раз на воровстве у Ярмука, у отца моего хозяина, Чулка поплатился зубом, который выбил ему Ярмук пестом. Зол был Чулка на это, потому что люди не давали ему проходу, указывая на выбитый резец; но делать нечего: виноватый молчит, и Чулка также молчал. В отместку за зуб свой он решился наказать Ярмука, украв у него лошадь. И тут бог его попутал: он попался с лошадью, и поймал его опять сам хозяин, Ярмук, но на сей раз уже не удовольствовался тем, что отмял ему вволю бока, а связал его и представил начальству. Чулка убедительно отпрашивался, клялся, что больше у него воровать не станет, но Ярмук не хотел, видно, вводить его в искушение и требовал расправы. Тогда Чулка поклялся отомстить ему с такой злобой, что и Ярмук испугался было проклятий его и потому скрутил ему руки потуже, дал еще две заушины и тотчас же повез на своей подводе, со старостой или сотским в город.
Дело длилось, по обыкновению, но наконец решено было тем, чтобы наказать Чулка при полиции, отдать его на поруки и оставить под присмотром. Приговор исполнили; но, по беспорядку, позабыли записать исполнение в журнал и донести об этом куда следовало; через месяц, по случаю пересмотра ведомости нерешенным делам, полиции сделано было подтверждение, чтобы наказать арестанта Чулка и оставить его на месте жительства под присмотром. Чулка вытребовали, посекли и отпустили. Проходит еще месяц; полиции насылают грозное приказание исполнить приговор немедленно и донести. Тут уже подавно разбирать было некогда: Чулка в третий раз потянули, выместили на нем выговор этот и неисправность пьяного секретаря или письмоводителя и наконец уже в этот раз донесли об исполнении и пометили дело конченным.
Воротившись домой, Чулка был так зол, что лез на стену; если бы он был не чувашин, то, конечно, посягнул бы на убийство своего заклятого врага, Ярмука; но чувашин этого не сделает, и Чулка распорядился иначе; выждав ночь, он пошел и удавился на воротах Ярмука. Со светом баба сунулась было из избы с ведрами по воду -- и ахнула, кинувшись опрометью назад. Хозяин выскочил и стоял столбняком. Он был не японец и потому вовсе не обязывался вспороть себе в честь повешенного соседа брюхо или последовать его примеру и удавиться; но Ярмуку грозила беда другого рода, которая иногда стоит петли и веревки: суд наедет со следствием и со всеми принадлежностями к нему и неминуемыми последствиями…