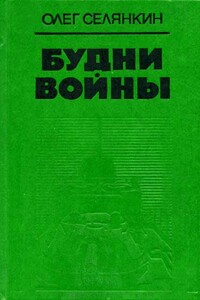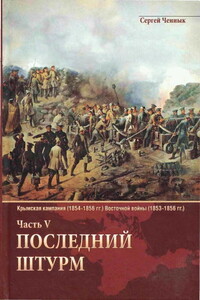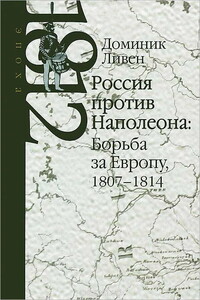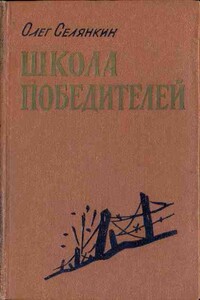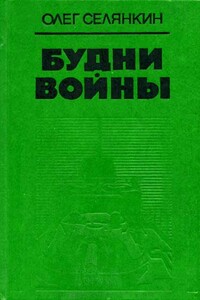Сержант Трофим Сидорович Сорокин за два долгих года войны привык все делать степенно, обстоятельно. Конечно, кроме тех минут, когда шел в атаку или находился в рукопашном бою: тут жизнь за долю секунды потерять можно, значит, если намерен ее уберечь, самого малого мгновения не смей потерять.
Он навечно запомнил первый год войны, когда отступать выпадало зачастую с пустыми подсумками, а фашисты наседали со всех сторон, ничего не жалели, чтобы уничтожить и полк, и его, Трофима Сорокина. Тогда порой становилось вроде бы вовсе невмоготу, однако он терпел, пересиливал себя: твердо знал, что обязательно погибнет, если хоть на ничтожное мгновение поддастся безмерной усталости или отчаянию, холодящему душу.
В то, что фашисты будут в порошок стерты, — в это непоколебимо верил даже в, казалось бы, самые беспросветные минуты.
Изведал и радость больших побед, хотя сам к ним вроде бы и не имел отношения. Это уже глубокой осенью сорок второго, весной сорок третьего и совсем недавно, когда Красная Армия разгромила фашистов под Курском, Белгородом и Орлом. И ни разу не позавидовал тем, кому выпало покрыть себя вечной славой в тех сражениях: советский солдат — надежнейший и вернейший защитник своего народа, куда его командование пошлет, там ему и действовать надлежит. Умело, решительно, сноровисто и не жалея себя. Словом, как того требуют совесть и присяга.
И товарищи в роте — под стать Трофиму: настоящие солдаты-фронтовики, которых уже ничем не удивишь, уже ничем не испугаешь; чувствовали они свою большую силу, непоколебимо верили, что вместе любое задание осилят.
Все сержант Трофим Сидорович Сорокин делал степенно и обстоятельно, поэтому и сегодня, проснувшись, не сунулся из землянки, а лишь спросил, даже не шевельнувшись:
— Слышь, кто на улицу выглядывал, как там?
Был тот утренний час, когда многие солдаты уже проснулись по привычке, выработанной за годы военной службы, но старались не порушить последние минуты сна других, хотя и хотелось поговорить о самом разном. Поэтому один немедленно ответил, чуть глуша голос:
— Черт бы побрал ее, эту погоду!
Значит, опять ни облачка, значит, опять весь день жди, что вот-вот нагрянут фашистские самолеты…
Зато можно постирать бельишко: на солнце оно мигом и хорошо просохнет. А судьба солдатская всем известна: сейчас в землянке бока отлеживаешь, временем можешь по своему усмотрению распоряжаться, а потом вдруг грянет приказ — и марш-марш на передовую, может быть, в такое пекло, какое в мирное время никому и не снилось.
Трофим еще решал, с чего начать стирку, но тут, откинув плащ-палатку, заменявшую дверь, в землянку заглянул посыльный командира роты и рявкнул в темноту:
— Сидорович! Тебя Флегонт Иванович кличут. Немедля!
Вот он, первый сегодня приказ, и сержант Сорокин ловко соскользнул с нар, быстренько умылся, в раздумье провел ладонью по щекам и подбородку, убеждаясь, что побриться следовало бы, схватил автомат и вышел из землянки.
Был Трофим Сорокин высок, широкоплеч. Настолько могуч телосложением, что не было в полку человека сильнее его, что за четыре года военной службы и с самыми разными товарищами неизменно стоял на правом фланге роты.
Командир роты — ниже среднего роста и такой тощий, будто его никогда не кармливали досыта. Но Трофим и его товарищи знали, что старший лейтенант в середине тридцатых годов был чемпионом Советского Союза по бегу на лыжах на десять километров; может быть, и задержался бы в чемпионах (они в это верили), но попал в крушение на железной дороге, где его так крепко поломало, что врачи сначала высказали сомнение: а сможет ли он вообще вернуться в армию? Однако Флегонт Иванович упорством своим заставил их ошибиться. Чемпионство, конечно, осталось только строкой в биографии, но за здоровьем своим он следил; случалось, даже на передовой, где от взрывов снарядов, мин и бомб солнце меркло, вдруг то руками начнет по-научному размахивать, то приседать пустится. И силенкой он не был обижен. Конечно, с Трофимом не мог тягаться, но с остальными, когда до борьбы дело доходило, даже со многими справлялся.
Уважали солдаты своего командира за былое чемпионство, за то, что не сдался, когда беда на него навалилась, но больше всего — за всегдашние спокойствие, справедливость и человечность, за умение в самом тяжелом бою найти нужное командирское решение.
С Трофимом и некоторыми другими солдатами он службу нес с довоенного времени. Правда, сейчас во всей роте только человек десять таких знакомцев наберется, но, если вдуматься, разве это мало по теперешней войне, когда по тебе из пушек и минометов всех калибров долбят, из пулеметов и автоматов пуляют, танковыми гусеницами норовят в клочья разорвать, авиационными бомбами в землю вбить?
Настолько командир роты и его солдаты привыкли друг к другу, сроднились с батальоном и полком, пока имевшим только трехзначный номер, что после излечения в госпитале обязательно просились в свою часть; а однажды ефрейтор, просьбу которого оставили без внимания, даже самовольно убежал в родную роту, так сказать, пошел против закона, своеобразным дезертиром стал. Но на защиту его встало даже полковое командование, дивизионное подключилось и, конечно, отстояли.