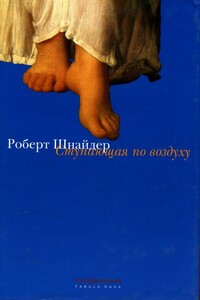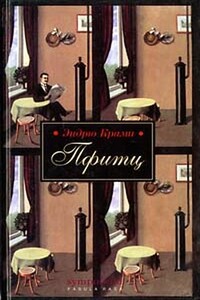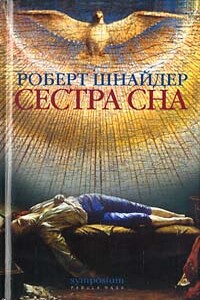Мой ангел ушел. Мой ангел с гор, именуемых Юра́. И чья-то большая ладонь скользнула по моему лицу, и я почувствовал, что устал, отчаянно устал; мысли помрачились, жизнь померкла. Тоска изъела мой день.
Его любовь оборвалась. Я мечтал о невесомости для нас обоих, но оба мы не удержались и канули в географию незнакомой ночи. У него были маленькие, владеющие даром изысканной речи, вечно холодные руки. Левое ухо оттопыривалось, на нем не было хрящевой бороздки. При родовспоможении врач серьезно опасался, что ангел задохнется. Пуповина опутала шею и головку. Говорят, родильный зал в Веве́ замер в полном безмолвии, а лицо ангела отливало синевой, как выложенный кафелем больничный пол.
Когда он ушел, я, должно быть, совсем оскудел. В довершение всего талант мой иссяк, мой истинный талант — вживляться словами в боль другого существа, зажигать на давно повзрослевшем лице большие детские глаза. Я помышлял о близости, он же всегда воспринимал это как обиду. У меня не было сил вновь совершать старые ошибки. Я потерял мужество терять людей. Я — сбагренное с рук, лепечущее словесный сумбур дитя отцовского сеновала. Я, исколотый стерней скошенных лугов, покрытый седым налетом высохшей пыльцы, лежал по ночам дома, томясь тоской по дому. И не изменял ни своему одиночеству, ни боли. И не раскаивался в том, что считалось тогда ложью, а на самом деле было фантазией неусыпного детского ума.
И вот я уснул, проспав, наверное, многие годы. Когда же проснулся и все еще жил, встал и поднял глаза на оснеженные, в пять разлапых ярусов ели Мешаха, и тут внезапно, непостижимо для меня самого, тоска по моему ангелу растаяла, подобно утреннему туману. Ночь миновала.
Уже нет пиетета к безнадежности, уже забыта арифметика полной уценки всех ценностей, никакой перелицовки и пере-перелицовки истины. Щит из начищенных до блеска слов уже не прикрывает опустошенное сердце. И нет больше самоуверенной силы, нет удивленного изгиба бровей, нет неприступности. И снова полет в бездну навстречу ангелу.
Я встал, я, дитя сенного цветочного праха, вернулся в ощетинившиеся стерней луга и решил еще раз дать образ миру, вопреки умудренности, вопреки смирению.
Вам, оснеженные, в пять разлапых ярусов ели, вам принадлежит книга, которую я пишу. История Мауди Латур и мира Рейнской долины. О том, что вершилось доброй колдуньей в навсегда расколдованном мире. О жизни последнего человека с живой душой.
Ноябрьским утром 1969 года один молодой человек выехал из Граубюндена в город Санкт-Галлен, чтобы забрать из кантональной больницы уже окончательно ослепшего отца. Амброс Бауэрмайстер не доехал до Санкт-Галлена.
После смерти Гермины (рак как следствие тысячекратных поддакиваний и лжи смирения — такова была логика Амброса, с помощью которой он пытался остановить угасание матери) у отца начались странные боли в глазах. Слезные железы уже не выделяли влаги. Отсюда — разрушение роговицы, и в результате озорной небрежности — стоило сестре выйти из палаты, как строптивый пациент срывал с глаз повязку — началось воспаление конъюнктивы, называемое трахомой, или египетской болезнью.
Леопольд Бауэрмайстер больше не мог плакать.
Но именно теперь ему хотелось плакать, ему, кого никто из близких никогда не видел плачущим. И не от печали по Гермине пустил бы он слезу, а, как полагал Амброс, из чистого эгоизма.
И как она только могла так поступить с ним, жаловался старик, как могла умереть раньше него; он сцеплял в замок руки, потом начинал беспрестанно крутить узкое алюминиевое кольцо на пальце. Кольцо с десятью зазубринами вместо четок — как раз на десять «Авемарий». Ведь он всегда молился о том, чтобы Господь прибрал его раньше Гермины. Сколько денег отнес в миссию, сколько пожертвовал на прокаженных! А теперь вот Бог заставляет его жить дальше.
Леопольд Бауэрмайстер поднял свою трясущуюся костистую голову, сжал губы, задержал дыхание и заморгал истаявшими до крохотных льдинок глазами, вглядываясь в темноту больничной часовни. А тело старика немного вздрагивало, и это был плач с сухими глазами. Потом он как бы проглотил свои сухие слезы, бормотнул что-то невнятное и улыбнулся. Но в глазах, которые болезнь превратила в прорези с полуопущенными веками, не мелькнуло ни малейшей искры, и лишь тот, кто его действительно знал, мог бы понять, что Леопольд улыбается.
Когда Амброс впервые увидел несчастное лицо отца, чего раньше и вообразить было невозможно, он не смог удержаться от смеха: такой смех непроизвольно вырывается при виде лица, искаженного сильнейшей болью, потому что знакомые черты становятся такими странными и чужими. После его охватили ярость и сострадание одновременно.
— А о маме ты вообще не думаешь? Что, если бы ты умер раньше?
— Ну, это уж она бы пережила.
— Какой же ты себялюбивый! На самом деле ты никогда ее не любил. Твоя, с позволения сказать, любовь была просто сорокалетней привычкой. А теперь донимаешь своего Бога, потому что никто не стелит тебе чистое белье и не подает на стол. У тебя никогда не было ясного взгляда на жизнь. Ты жил с закрытыми глазами.
Такими упреками, переходящими в грубость, как правило, и кончались посещения больного. Но больше всего сына бесило то, что отец, по существу, никак от них не отбивался, напротив: чем яростнее костил его Амброс, тем нежнее становились жесты и речи отца.