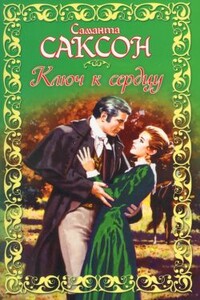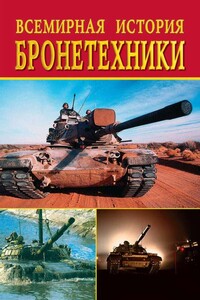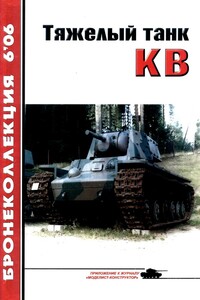Елена Арсеньева Страсти-мордасти (Дарья Салтыкова)
– Да шевелитесь вы, жеребцы! Шевелитесь, любезники! Барыня заждалась, небось!
И – щелчок кнута по перилам! И – еще раз – по плечам!
Толпа молодых мужиков и парней ввалилась в просторную залу господского дома, в которой пахло свежевымытыми полами и полынью, разбросанной тут и там «для отогнания блох».
– По стеночке, по стеночке, – учил суетливый староста, расталкивая толпу и для острастки то и дело прищелкивая кнутом. – По стеночке станьте. Держитесь очестливо. Ежели барыня чего спросит, солому не жуйте – отвечайте споро. Да лыбьтесь, робята, лыбьтесь поширше, не жалейте зубов!
«Робята» покорно подперли стены. Но «лыбиться» не спешили. На лицах застыли испуг и тревожное ожидание. Медленно тянулись минуты.
– Скорей бы уж, – выдохнул красивый крепкий мужик с русой бородой. – Все одно – не миновать стать…
– А может, минует? – пробормотал тонкий и стройный юнец лет шестнадцати, не больше, черноглазый, с едва пробившимися черными усиками, еще безбородый. – Кабы обошло меня, я б, наверное…
– Если бы да кабы во рту б выросли грибы! – глумливо ухмыльнулся староста. – Помалкивайте, чада! Барыня едет!
Стены, чудилось, дрогнули: это задрожали прижавшиеся к стенам мужчины. В открытое окно донесся стук копыт, звонкий женский хохот – такой веселый, такой заливистый и заразительный, что по лицам, как ни были люди перепуганы, вспыхнули ответные улыбки. Да тут же и погасли.
– Берите его в беремя да волоките наверх, прямиком в опочивальню! – приказала та, что смеялась за окном. – Да побыстрей, косорукие! Не то…
Слышно было, как по лестнице торопливо протопали какие-то люди. Судя по тяжести поступи, они тащили какой-то груз. Вслед затем раздались легкие, летящие шаги, распахнулась дверь, ведущая в залу, и в проеме встала высокая и красивая женщина, одетая в простое синее платье – почти в цвет ее глаз. Темно-русые пряди полураспустившейся косы обвились вокруг округлого полуобнаженного плечика, выглянувшего из распахнутого ворота. Стройный стан, щедрая грудь туго-натуго натянула ткань, белая нежная шея, алый рот, румяные щеки, соболиные брови, сияющие глаза, белоснежные зубы, влажно сверкающие в улыбке…
Сказка, а не баба!
Но самосветная улыбка ее, словно метлой, смела румянец с мужских лиц. Вдоль стен, чудилось, выстроились мертвецы, только что вставшие из могил. Отчетливо было слышно, как один, самый трусливый, выбивает дробь зубами. Кто дышал тяжело, запаленно, кто, наоборот, сдерживал дыхание…
– Ждете, желанчики мои? – хохотнула красавица, вглядываясь в померкшие глаза. – Ждете, миланчики? Попусту! Нынче у меня трофей, с ним забавляться стану. Вы – гуляйте, жеребчики мои удалые. Пока – гуляйте! Гони их всех на выпас, Ерофеич! – махнула она старосте округлой загорелой рукой с маленькой крепкой кистью. – Пошли вон, а ну!
Мужики потянулись к дверям – сначала медленно, словно не верили своему счастью. Потом, почуяв свободу, ломанулись наперебой, давя друг друга.
– А ну-ка, стойте! – вдруг послышался барский окрик.
Те, кто успел выскочить в сени, сделали вид, что приказа не слышали: скатились с крыльца, опрометью кинулись со двора.
– Вот этого возьми, Ерофеич! – махнула барыня в сторону черноглазого парнишки, и староста проворно ухватил его за плечи, кинул ей в ноги.
Она нагнулась, погрузила пальцы в густые темные кудри, намотала на пальцы, чуть потянула…
Парень сдавленно вздохнул от боли.
– Чей такой… чернявенький? – проворковала барыня нежно, словно горлинка.
Он не отвечал, только дышал хрипло.
– Егорка, Володимера Дымова, сторожа с пасек ваших, младший сынок. Оленка, сестрица его, у вас в сенных девушках, а Егорка… подрос вот, – ответствовал за мальчишку староста.
– Вижу, что подрос!
Она дернула за черные кудри изо всех сил, и парень вскинул голову. Глаза его были зажмурены от боли.
– А ну, погляди на меня! – резко приказала барыня. – Кому сказала! Ну!
Егорка разомкнул веки, и она тихо засмеялась от удовольствия, глядя в черные, затуманенные болью и страхом глаза.
– Ерофеич, ты мальчишку покуда не отсылай, – приказала барыня. – Подержи в чуланчике. Может статься, мой трофей только с виду горяч да ладен, а на поверку слабаком окажется. Тогда я тебя покличу, ты мне этого ангелочка и представишь.
– Слушаюсь, матушка-государыня-барыня! – покорно забормотал староста. – Над нами ваша господская воля, что ни велите, все сделаем!
– А ты? – шепнула она, не отрываясь от налитых ужасом глаз Егора. – Ты сделаешь ли все, что я велю?
И, вдруг склонившись к его запрокинутому лицу, впилась в губы таким поцелуем, что парень дышать перестал, застонал, забился, но староста схватил его за плечи и придержал. Когда барыня оторвалась наконец, рот ее был в крови, так сильно она искусала губы Егора.
– Жди, слышишь? – велела она, распрямляясь. – Жди!
И, алчно облизав окровавленные губы, стремительно вышла вон, хлопнув дверью.
Староста с усилием перевел дух, перекрестился. А Егорка безвольно согнулся, уткнулся лбом в пол. Его так и трясло.
Затрясешься тут небось…
«Вот все говорят: старость, мол, – беда, молодость – радость, – размышлял, глядя на узкую согнутую спину с цепочкой позвонков, Ерофеич, который был немножко философ, хоть слова такого не знал и в жизни не слыхал. – А ведь предложи сейчас кто-то всемогущий Егорке, чтобы поменялся со мной годами, – ведь поменяется за милую душу, да еще в ножки станет кланяться и благодарить!»