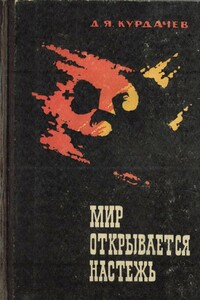1979 г. ноябрь – декабрь
т. 34, вып.6 (210)
УСПЕХИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК
Показать
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ В СССР
СТРАНИЦЫ АВТОБИОГРАФИИ
П. С. А л е к с а н д р о в
В этих записках происшествия и встречи моей долгой жизни освещаются как бы изнутри этой жизни, так что получается субъективное повествование, являющееся скорее страницами психологически окрашенного дневника, чем эпическим объективным описанием жизни автора в рамках данного общества и данной эпохи.
С другой стороны, именно этот субъективно-психологический характер делает мои записки неким человеческим документом, который на вопрос: «какой может быть жизнь человека данной профессии и данной эпохи?» отвечает: «в частности и такой, как здесь описано». Ничем другим, как таким единичным (среди множества других возможных) «человеческих документов» мои записки не являются и не предназначены быть.
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
Помню я себя с четырёхлетнего возраста. Моё первое воспоминание касается разговора моей матери с особой, которая была приглашена, чтобы быть моей немецкой бонной. Разговор происходил на немецком языке, которым (как и французским) моя мать хорошо владела. Моя мать говорила с Ольгой Петровной (так звали собеседницу), что через две (или три) недели мне исполнится четыре года, из чего следует, что был этот разговор во второй половине апреля 1900 года.
Я помню ярко освещённую весенним солнцем столовую нашего Смоленского дома с двумя окнами (вернее, окном и стеклянной дверью), выходящими в сад. Комната была в первом этаже большого двухэтажного деревянного дома на территории Смоленской губернской больницы, главным (или, как тогда эта должность называлась) старшим врачом которой был мой отец. Упомянутый дом был квартирой, предоставленной моему отцу по его должности. Как я понимаю, моя мать в своём разговоре с Ольгой Петровной излагала ей её будущие обязанности. Разговор увенчался успехом.
Ольга Петровна прожила у нас несколько больше четырёх лет на положении члена семьи и отношения у меня с ней были самые лучшие. Насколько я себе представляю, Ольге Петровне было лет 30, она была рижанка, по национальности, вероятно, латышка и хорошо говорила по-немецки с тем особым прибалтийским акцентом, который много лет спустя я услышал в немецком языке Гильберта и с которым, как известно, говорил Кант, так же как и Гильберт, происходивший из Восточной Пруссии.
Ольга Петровна много читала мне вслух немецкие сказки, главным образом, братьев Гримм и Гауфа, а также сказки Андерсена в немецком переводе. Мы много гуляли за городом, чему очень способствовало то, что Смоленская больница, а следовательно, и наш дом, были расположены на самом краю города и дальше была живописная холмистая местность с красивыми рощами.
Немецкий язык и немецкие сказки, игравшие такую большую роль в моих самых ранних детских впечатлениях, несомненно, оказали значительное влияние на дальнейшее формирование моей личности, став началом той глубокой связи с немецкой культурой, которая яркой чертой проходит через всю мою жизнь. Ведь фактически немецкий язык был моим вторым родным языком.
Особенностью моего раннего детства было почти полное отсутствие игрушек и развлечений в обычном смысле слова, т.е., вернее, крайняя простота и тех и других. Моей игрушкой был, например, вырезанный из картона «воздушный шар», долженствовавший изображать воздушный шар братьев Монгольфье, как-то показанный мне с надлежащими краткими объяснениями на картинке. К этому картонному «воздушному шару» была прикреплена бечёвка, закидывавшаяся за гвоздь или крючок, вбитый в стену, так, что я, тянув надлежащим образом за верёвку, мог достигать того, что мой воздушный шар подымался или опускался. Остальное дополняло воображение. Другой моей игрушкой был сделанный моим братом Иваном из берёзового полена корабль с мачтами и парусами, который я при содействии того же моего брата отправлял ранней весной в плавание по какому-то маленькому пруду (или, скорее, большой луже) неподалёку от нашего дома. Правда, мачты и паруса имели более декоративный характер и корабль приходилось приводить в движение обычно подталкивая его, причём он часто валился на бок, что, впрочем, рассматривалось как кораблекрушение и представляло свой интерес. Беда была только в том, что эти кораблекрушения были уж очень часты и представляли, так сказать, нормальное состояние жизни моего корабля, а не несчастный случай. Вероятно, это и было причиной того, что корабль просуществовал недолго — в пределах лишь одной весны. Но моим самым любимым развлечением в возрасте 4–5 лет, конечно, после прогулок и слушания чтения вслух, были мои киты, которых я клеил из газет. Из нескольких газетных листов получались огромные киты, которые простирались по полу из одной комнаты в другую. Киты эти возникли так: мой дядя Михаил Акимович Здановский (о нём много сказано ниже) подарил мне хорошо иллюстрированное издание «Жизнь животных» Брэма в десяти томах и я, ещё не умея читать, очень любил рассматривать картинки в этих томах, а необходимые к ним комментарии рассказывала или читала мне моя мать. Привлекали меня, главным образом, большие животные: слоны, бегемоты, удавы, из птиц — кондоры и альбатросы и я всегда просил мне сообщать точные данные об их размерах: длину удава, размах крыльев альбатроса и т.п. Конечно, интересовали меня и всякие сведения об образе жизни понравившихся мне животных. Вообще я многому научился из моего Брэма. Из наземных животных особенно интересовали меня удавы и слоны; к обезьянам я имел выраженную антипатию, не знаю, чем вызванную. Но больше всего я полюбил китов, и вот стал их склеивать из газет. Я знал многие виды китов: гренландских, кашалотов и др. С тех пор на всю жизнь я приобрёл резкую вражду к китобойному промыслу. Когда в 1958 г. в возрасте 62 лет я в Лондоне попал в Британский музей, то сразу же отправился в специальный павильон, где находилось великолепно сделанное чучело гренландского кита, а рядом с ним был выставлен скелет этого кита. Глядя на эти экспонаты, я переносился в своё раннее детство.