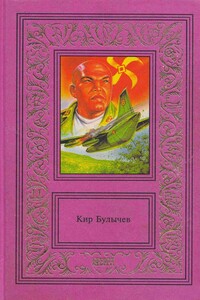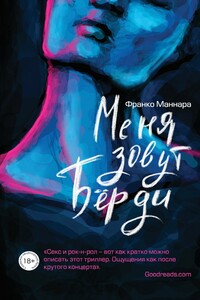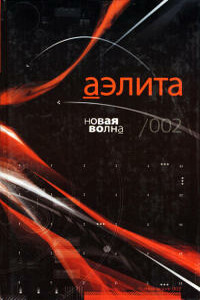Орла пыталась не думать об этом как об ампутации, но не получалось. Когда они уехали из квартиры в Нью-Йорке, ей словно отняли ногу. А теперь, пока она прощалась с семьей мужа в Платтсбурге и плелась на север, – еще и руку.
Она пристегнула ремень безопасности свободной рукой, глядя на ноги, обутые в грязные ботинки. Это тело больше не будет танцевать. Больше никаких головокружительных появлений, пока на сцене поднимается занавес. Никаких аплодисментов. Ее жилистые руки и ноги больше не будут двигаться плавно, словно потоки музыки. Остались лишь голые кости. И бесконечные леса.
Шоу был таким хорошим супругом первые пару недель после выхода на пенсию. Он каждый день заострял внимание на хорошем: ее вечно напряженные мышцы смогли наконец зажить; она больше не страдала от почерневших ногтей на ногах; ей не приходилось проводить много часов в день в компании потных, вонючих людей. Под впечатлением новой жизни, которую они планировали, она поддалась влиянию его оптимизма. Хотя и сама не помнила, чтобы жаловалась – по крайней мере, не часто и не желая, чтобы жизнь стала иной. Порой у писателей источаются карандаши, а кисти у художников становятся жесткими. Это обычные препятствия в ремесле, такие же, как и ее боль, но это не повод отказываться от искусства.
И все-таки она понимала своим нутром: сорок один – это много для балерины. На все требуется больше усилий, чем когда-то. Момент настал, и она согласилась – конец ее эпохи должен был ознаменовать начало карьеры Шоу. Пришла его очередь воплощать свои художественные мечты.
Порой она не чувствовала ничего, кроме волнения от этого приключения, от таких больших перемен. Но в другие дни… переезд вглубь хребта Адирондак казался более рискованным шагом, чем она себе представляла. Предполагалось, что «уехать из города» значило «переехать в место вроде Питтсбурга, где она выросла». Этот маленький городок был лучшим из всех вариантов: смена обстановки, культуры, плюс доступным по средствам. Они нашли бы там прекрасный семейный дом, просторный по манхэттенским меркам, а дети могли бы проводить время с лола и лоло[1]. Ее родители были бы так рады жить рядом с ними! Но, помимо этого, как пара они придерживались философии «живи одним днем». И постигай новое. И еще открывай в себе неизведанные грани в неожиданных городах.
– Carpe diem[2], – пробормотала она.
Момент, когда она должна была принять происходящее, разбился вдребезги и исчез; у нее перехватило дыхание. Там, на обочине дороги, виднелась пара ног. И нереалистично раздувшееся тело.
Машина приблизилась, и стало понятно: ей не показалось, там действительно лежала задняя часть туловища – оленя, не человека. Передняя же лежала чуть дальше на снегу: ноги скрещены словно в позе лотоса, вокруг черепа брызги крови.
Дорога позади растворилась, потонув в снегу обочин. Раньше она не стала бы так реагировать, зная, что в конце дня они вернутся к Уокеру, Джули и детям.
Деревья стали гуще и поглотили свет. Назад пути нет.
Шоу перевел взгляд с дороги на нее:
– Ты только что сказала «Carpe diem»?
Орла перенеслась обратно, во враждебный мир прямо за стеклом. Улыбка Шоу напомнила ей, что надо сделать вдох. На его волосах были вкрапления голубой краски: это стало обычным делом за последний год, когда он наконец понял, куда склоняется дрожащая стрелка его внутреннего компаса. Он начинал с маленьких холстов и акриловых красок, но с годами холсты росли, а в квартире появился аромат льняного масла и скипидара. Шоу был не самым аккуратным художником, и следы на коже, одежде, волосах показывали, чем он занимался днем. Хотя то, что было у него на волосах сейчас, наверняка появилось из-за ремонта в спальне дочки.
– Неужели? – спросила она. – Может быть… Но мы ведь так и живем, не правда ли?
– Точно. Карпе-диемим на полную!
Она прыснула от смеха: иногда его энтузиазм был заразным. Надеясь поймать блеск улыбки на лице дочери, она повернулась к заднему сиденью. Элеанор Куин сидела и смотрела в окно, на небо. Орла молилась, чтобы дочь не увидела мертвого оленя. Хотелось, чтобы дикая местность, которую она называла Адирондак, пошла на пользу ее задумчивому ребенку. Элеанор Куин – для некоторых просто Эль или Элеанор, но никогда для ее мамы – не создавала впечатление крепкой и достаточно агрессивной девочки, которая сумела бы вырасти в городе. В свои девять она по-прежнему боялась темноты, хотя с этим страхом, как и со многими другими, Орла и Шоу смирились: как люди с богатым воображением они и сами не могли пообещать, что в темноте не затаилось что-то страшное. И они уважали свою дочь за практичные страхи: шумного эскалатора, который спускался в метро, сирен, которые кричали об опасности, тротуаров со спешащими, толкающимися пешеходами.