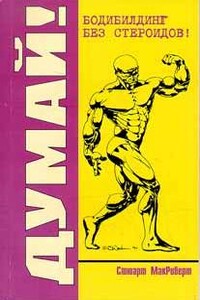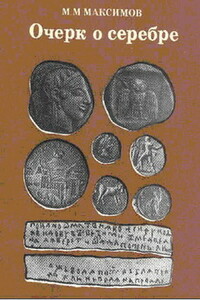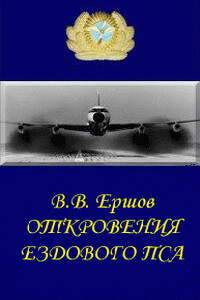Авиакомпания рушилась. Созданная в период безвременья на обломках бывшего Аэрофлота, вовремя прихваченная ловким бизнесменом, она под шумок перестройки сначала быстро набирала силу, прытко лавируя между параграфами отстающих от жизни законов, удачно увиливала от вялых проверок бессильных контролирующих органов и, благодаря этому, щедро давала хозяину горячую, свежую копейку.
Когда свежая копейка превратилась в миллионы, а сеть параграфов стала слишком частой, чтобы сквозь нее можно было безболезненно проскальзывать, авиапредприятие почему-то стало жить в долг, а хозяин предусмотрительно обустроил себе уютный уголок за рубежом, перевел деньги, вывез семью и, сменив гражданство, умыл руки.
Теперь брошенная на произвол судьбы, увязшая в долгах компания погибала. Поставщики топлива и другие кредиторы предъявили претензии, начались процессы, пошли задержки рейсов, пассажиры неделями сидели в вокзалах, конкуренты оживились, - и, в конце концов, получилось так, что от некогда сильной, активной, казалось бы, надежной компании остался один призрак.
Генеральный ее директор, вдруг ставший мальчиком для битья, метался по службам, пытаясь продлить жизнь авиапредприятия, а значит, подольше получать свое жалованье. Но не только в жалованье было дело. Он попал в сети невыплат зарплаты сотрудникам и теперь, опасаясь ответственности, оговоренной законом, не мог просто так уйти, поэтому каждую неделю летал в Москву, пытаясь выбить, выпросить, вымолить деньги на зарплату.
Да только кто ж ему даст. Хозяин испарился. Москва потирала руки в предвкушении жирного куска. Готовилась процедура банкротства.
Менеджеры, почуяв близкий конец, побежали с тонущего корабля. Летный директор посоветовал пилотам искать другое место работы. Штурманам и бортмеханикам перспектив устроиться на летную работу почти не было, потому что в большинстве авиакомпаний уже практически прекратилась эксплуатация старых советских самолетов с большим экипажем, а вот пилоты, классной подготовкой которых авиапредприятие в свое время славилось, были востребованы везде.
Молодежь начала подавать заявления об уходе. Конкуренты с радостью приютили хорошо подготовленных пилотов; подсуетившись, разобрали и рейсы. Авиакомпания осталась без рынка.
Старым летчикам податься было некуда, они ожидали сокращения и, пока еще чувствовалась жизнь в судорогах компании, изредка подлетывали на таких же, как сами, старых, дорабатывающих свой ресурс лайнерах. Часть из этих машин уже вот-вот должна быть описана за долги, часть - заложена под кредиты; правда, зарплату не платили уже три месяца, и летчики работали просто потому, что была возможность еще раз, может, крайний, подняться в небо. Тлевшая в душе надежда, что все еще образуется, угасала.
Климов ехал на вылет, плохо выспавшись. С того времени, как умерла жена, он вообще неважно спал. Какая-то черная полоса жизни подошла и никак не кончалась. Барахлило здоровье, он с трудом прошел годовую медкомиссию в Москве; на ЦВЛЭК ему ясно дали понять, что в следующий раз уже и деньги не помогут: изношенное сердце не позволит летать.
Действительно, ему было уже под шестьдесят, и выглядел он так, что за спиной говаривали: "конечно, старик еще держится, но... сдал, явно сдал".
Конечно, он сдал. Рухнул тыл летчика. Дети давно ушли на свои хлеба, разъехались, холодный дом был пуст, туда не хотелось возвращаться после вылета; он охотно летал в долгие командировки и привык к гостиничному невеликому уюту и минимуму потребностей. Рубашки и носки наловчился стирать в раковине, брюки гладить через газету на подстеленном одеяле; всю жизнь проходив в приросшей к коже форменной одежде, он не нуждался в гражданской.
Дни бесконечной чередой улетали под крыло, между полетами была пустота, и Климов привык к постоянному, почти ежедневному ритуалу: гостиница, медпункт, штурманская комната, пилотская кабина, до блеска вытертый его жилистыми руками, облупленный штурвал.
Молодежь поглядывала на старика с почтением, переходящим в священный трепет, когда он за штурвалом показывал руками, как по-настоящему надо творить полет.
Он привык к всеобщему уважению, знал себе цену, и если иногда в общем разговоре вставлял свое веское слово, тема увядала: больше говорить было не о чем.
Климову на разборах нередко поручали выступить перед аудиторией по вопросам, требующим практического решения в полете. Он умел перевести сложное теоретическое обоснование с языка формул и графиков на язык простейших понятий. Летчики любили Климова за то, что он каким-то непостижимым образом, буквально на пальцах, раскрывал суть проблемы, а в полете руками показывал множество вариантов ее решения.
Климов был практик.
Он состарился в полетах и устал от них, но понимал, что, пока жив, надо держать планку так высоко, как только можно.
Как-то он заметил уголком глаза в зеркале кудряшки седых волос у себя на шее, устыдился, сбегал в парикмахерскую и с тех пор строго, придирчиво следил за своей внешностью: чисто брил лицо, седые редкие волосы стриг коротко, засаленный галстук сменил на новый; стрелочки на брюках были безукоризненны, неуклюжие стариковские ботинки сверкали, чистые обшлага выглядывали из рукавов отутюженного пиджака. Он по привычке носил фуражку с "дубами" на козырьке и пиджак с капитанскими шевронами на рукавах, хотя все уже давно перешли на более удобные черные форменные свитера с погончиками, а о фуражках вообще забыли.