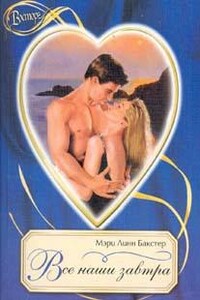Брайан Гланвилл
Стесняться тут нечего
Я причесывалась перед зеркалом, когда в спальню вошла Хильда и говорит:
— Дженни, он мне нравится, ей-ей нравится, ты таких симпатичных давно не приводила.
А я ей:
— Я так рада; правда, он ужас до чего интересный?
А она:
— Еще бы, а он еврей?
А я ей:
— Между прочим, да, но, правда же, ни чуточки не похож?
А Хильда мне:
— Нисколько.
А потом и говорит:
— Ты сегодня тоже ужас до чего интересная.
Я ее расцеловала, впрочем я и сама знала, что тафтяное зеленое платье и бриллиантовые серьги, папин подарок ко дню рождения, мне идут и выгляжу я хорошо.
Мы с Хильдой отлично ладим и всегда ладили с тех пор еще, когда она совсем малышка была; кстати говоря, я и отношусь к ней не как к племяннице, а как к ровеснице. Потому, наверное, что мы ужас до чего похожи и не так лицом, — хотя глаза у нее те же, да и нос тоже загибается книзу, правда, она, понятное дело, пока еще совсем тоненькая, — как повадкой. Она порывистая точь-в-точь, как я, вечно порет горячку, говорит все, что на ум взбредет, а потом раскаивается. Соображает она быстро, слишком даже быстро и оттого не очень и хорошо, и временами мне ее ужас до чего жалко, и я думаю: она наделает тех же ошибок, что и я; если б только я могла ее от них уберечь, да где там, никто никого ни от чего уберечь не может.
Чарльз разговаривал с Джеком — они, похоже, сошлись, потому что, если Джеку кто не по нраву, он или вовсе разговаривать не станет, сидит себе и молчит, или слова не дает сказать, затыкает рот. И я подумала: а ведь оба всем взяли, хоть они и совсем разные. Джек мужественный, спортивного склада и выглядит так, точно он не на Уордор-стрит[1] день провел, а на площадке для гольфа. Чарльз — тот куда более лощеный, нос у него длинный, прямой, волосы вьющиеся, совсем светлые. Разговор они, по-моему, вели об общем рынке.
Когда я вошла в гостиную, Айрин в безрукавном платье от Бальмэна[2], привезенном из Парижа, зажигала свечи, и я подумала: сколько она ни ест, а ни чуточки, ну ни на полкило, не потолстеет, где тут справедливость? Она вскинула на меня глаза и говорит:
— А он не голубой, нет?
А я ей:
— Г-сподь с тобой, с чего ты взяла?
А она:
— Говорит он так.
А я ей:
— Так, лапуля, образованные люди говорят.
А она:
— Вот оно что.
Тут я как взовьюсь:
— А тебе бы только придраться, — говорю. — Он — само обаяние. И зачем только я его к вам привела?
И вышла: не хотела до скандала доводить, знала — она так говорит только чтобы меня позлить. У них с Джеком на редкость узкий кругозор. Они то и дело ездят за границу, знакомства у них сплошь среди киношников, и они с них обезьянничают, Айрин, та в особенности, но в душе они ужас до чего буржуазные.
По правде говоря, мне иногда кажется: не будь мы с Айрин сестрами, мы бы с ней и вовсе не встречались, но с сестрой столько всего вместе пережито прежде, столько вместе прожито, что, если даже жизнь у нас сейчас совсем разная, каких гадостей ни наговори, а друг другу прощаешь. Бывает, мы по месяцу не видимся, ну а потом я беру трубку или она берет трубку, или мы сходимся у папы, и ведем себя так, будто ничего плохого между нами и не было.
Правда, и тут есть исключение, потому что не о мелочи речь: я их слушала, когда они на Сидни наговаривали, смотрела на него их глазами и, в конце концов, разошлась с ним. С виду Сидни еврей-евреем, прямо с карикатуры, и ужас до чего скучный да и вышла я за него, пожалуй что, с перепугу после той истории, и семейка его — кошмар что такое. Зато он был добрый и… словом, все лучше, чем одной куковать.
И вот ведь какая странность: они с евреями больше общаются, чем я; я что хочу сказать — и среди моих знакомых много евреев, таких, как Чарльз, но мои знакомые занимаются искусством, а не деньги заколачивают. Сколько раз я себе слово давала: никогда никого больше к ним в гости не приводить, но обещание никогда не держала — отчасти и потому, что, как ни крути, они мне родные, а отчасти потому, что мне хотелось сказать им, в особенности Айрин: «Съели?», чтоб она не очень-то задирала нос.
А когда вернулась в гостиную, где Чарльз разговаривал с Джеком, я еще вот что подумала: это нечестно — я же помню, сколько слез она пролила из-за Джека, она его любила, но боялась, что он на ней ни за что не женится, я тогда очень ее жалела, а теперь, глядя на нее, никогда ничего такого и не подумаешь — до того она самодовольная.
Когда я вошла, Чарльз говорил:
— Не знаю, я так думаю, в киноиндустрии самая завидная доля у экспериментаторов.
А Джек ему:
— Завидная — то она завидная, но на их фильмы зритель валом не валит.
А я и говорю:
— Послушайте, что же это такое: не успела я выйти из комнаты, а вы уже затеяли спор.
А Чарльз и говорит:
— Никак нет, на мой взгляд, понять, почему фильмы выпускают на экран и какие фильмы выпускают, захватывающе интересно.
Я поняла, что он имел в виду, а до Джека не дошло.
Особенно хорошо в Чарльзе то, что он чувствует себя, как рыба в воде, в любом обществе, а уж сколько всего знает. Я что хочу сказать: он ведь издает ноты, а говорить может о чем угодно — о литературе, машинах, живописи, кино и даже о тряпках. Я сразу поняла: Айрин, хоть она поначалу и вредничала, он понравился, потому что за обедом она подстраивалась под него, говорила: «Это так, но правда же, Ингмар Бергман ужас до чего устарел?» или: «Быть бы ему лучшим оператором Англии, если б его дружок то и дело не бросал его».