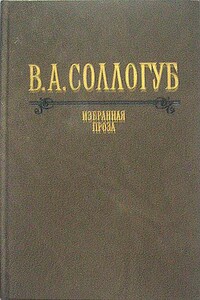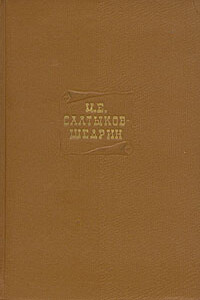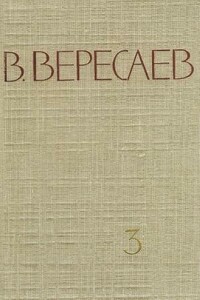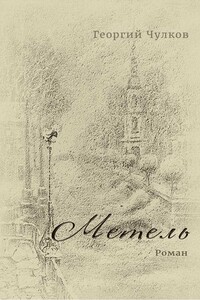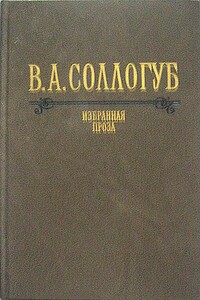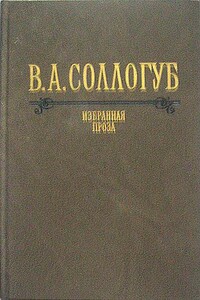В четвертом этаже довольно грязного дома Офицерской улицы[2] сидела у окна перед пяльцами молодая девушка и о чем-то думала. Окно было заставлено растениями и задернуто занавеской. В комнате было опрятно, хотя по скудному ее убранству не трудно было отгадать, что жильцы — люди весьма небогатые.
Диван красного дерева с выгнутой спинкой, несколько стульев, обтянутых некогда голубой, а ныне желтоватой материей, овальный стол, кровать за ширмой, у кровати сундук, комод, покрытый клеенкой, шкаф с домашней утварью, пяльцы, ярко вычищенный самовар и старинные бронзовые часы — вероятно, последний остаток более счастливых времен — вот все, что наполняло низенькую, но, впрочем, довольно вычурно расписную комнату. Во всем проглядывала бедность, но бедность с некоторой претензией, обнаруживающей как будто право на большее довольство. Между окон висело зеркало в почерневшей раме. На столе лежало несколько французских романов, маленький исписанный альбом и несколько золотых безделок, браслетов, брошек, серег в фарфоровом блюдечке.
Сквозь полурастворенную дверь видна была небольшая кухня, в которой здоровая кухарка с засученными рукавами усердно что-то стирала, приговаривая шепотом несвязные слова.
Молодая девушка, сидевшая у окна, была из числа тех, которые рождаются как будто ошибкою на севере.
Черная как смоль коса едва укладывалась тяжелым венцом над ее правильной, несколько смуглой головкой.
Большие черные глаза то сверкали решимостью и страстью, то вдруг, испуганные своей дерзости, прятались поспешно за длинными ресницами. Густые брови придавали иногда странную суровость детскому личику; но суровость эта скоро смягчалась нежным выражением взора, добродушной улыбкой ребенка, который и в печальной доле не знает еще печали.
Она сидела и думала — о чем, кто это скажет? Кто выразит, о чем думает молодая девушка, когда ей минуло семнадцать лет, когда глаз ее черен и она без свидетелей забыла свое рукоделье, уронила иголку и носится душой в целом океане упоительных догадок?
Очевидно, в мыслях молодой красавицы не было ничего безотрадного, напротив, в чертах ее лица выражался иногда веселый блеск шаловливого удовольствия, вероятно, при каком-нибудь шуточном, но задушевном воспоминании. Она вдруг улыбалась и потом, как будто забыв, что она одна в комнате, совестилась своей невольной улыбки, хмурила брови и принимала важный вид. Но притворный гнев не удавался. Молодость превозмогала врожденное чувство женской скрытности, и во взоре красавицы выражалась внезапно не детская насмешка, не выученная холодность, а тихая, глубокая, беспредельная нежность. Душа ее светлела в новом, торжественно грустном упоении. И вдруг ей становилось чего-то страшно. Она как бы желала чего-то, ждала чего-то и потом боролась с тайным опасением, не знала, что ей делать. Наконец она вдруг решительно вскочила с своего места, отодвинула растения, отдернула занавеску и отворила окно. Теплый ветерок пахнул в комнату. Вечер был весенний и светлый, как бывают весенние вечера в Петербурге. Молодая девушка взглянула сперва на небо, а потом, прислонившись на подоконник, с большим вниманием начала слушать шарманщика, который, с фуражкой в руке, жалобно на нее поглядывал, наигрывая из «Фрейшюца» марш[3]. На улице все было по-обыкновенному. По тротуару шел чиновник с портфелем и завязанной щекой. На перекрестке будочник бранил заспанного извозчика. У погребка нищий, в фризовой шинели и с красным носом, нюхал табак. Перед мелочной лавочкой стоял лавочник в переднике и пил вприкуску чай из стакана. Прошли, озираясь, две дамы в кисейных шляпках, а за ними промелькнули, помахивая тросточками, два молодца в фуражках и светлых пальто. Проехало несколько четвероместных ямских карет, нагруженных мирными семействами на возвратном пути с дач. Прошло несколько пожилых женщин с большими букетами пахучей сирени в руках.
В этой подвижной картине весенней петербургской жизни таилась, вероятно, особая прелесть для любопытной красавицы. Она не спускала глаз с проходящих и следила с большим вниманием за каждым их движением. На одно место она только упорно не глядела, а именно: на третий этаж противоположного дома. В этом доме было тоже отворенное окно, ровнехонько перед окном молодой девушки, но оно не было уставлено растениями, не украшалось занавеской. Из него клубом валил густой табачный дым, слышался собачий лай и раздавалось дребезжащее бренчанье расстроенных фортепьян.
При появлении смуглой головки лай собаки превратился в завывание, музыка умолкла и последнее облако дыма вознеслось, раздваиваясь, к небу. Из-за этого облака показалась белокурая голова молодого человека самой приятной наружности. В эту минуту он в особенности был хорош. В чертах его была радость, в глазах — любовь. Пристально, пламенно, страстно глядел он на милую соседку, и глядел так же упорно, как она избегала его взора. Но если справедливо то, что говорится о магнетическом влиянии воли, то она, верно, чувствовала этот жгучий, неодолимый взгляд; и действительно, дыхание ее становилось чаще, сердце ее билось, и недвижная стояла она и все пристальнее и бессознательнее глядела на шарманщика.