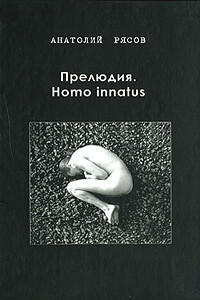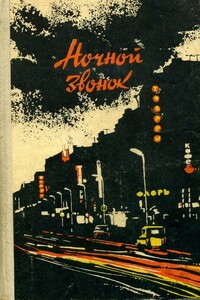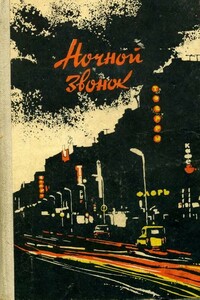Василий Соломатин сидел со стопкой в руке, не давая себе воли выхлебать всю водку сразу, хотя и было такое желание, а красуясь своим великодушием быть среди двух больных и преклонных старух, щедро угощая их. Бабы Валя и Катя были родные сестры; бабе Вале, что лежала на кровати с парализованной ногой, исполнилось недавно восемьдесят семь, бабе Кате — маленькой, с клюкой в левой черной от загара и грязи руке — восемьдесят пять. Старухи уже выпили по стопке, водка тихонько начала свое дело, но они ждали, чтобы Соломатин налил им еще и не показывали виду, что уже начали пьянеть: пускай толканет посильнее, дольше кровь гудеть будет и поменьше мыслей останется в голове. Баба Катя, более реши-тельная и злая, по причине худой жизни, подогнала Василия:
— Пей — да и нам налей.
— Эва! — удивился и обиделся Василий. — Ты чего — еще хошь? — Он хотел тихонько допивать водку один, несуетно беседуя со старухами: сидел прямо посередке между ними, на перевернутой боком табуретке, что твой султан. — Э! Баба Катя — а фингал у тебя под правым глазом я и не заметил: внучек опять шандарахнул?.
— Не! — рассвирепела вконец баба Катя — Сама с крылец грохнулась.
— Врет она, Вася… — тихо и ласково сказала баба Валя. — Он это: последнюю тыщу требовал ейную, Катя не давала, он ей — в глаз.
— Молчи, дура! — вскинулась баба Катя на сестру. — Тебя что, за язык тянут?! Баба Валя охнула:
— Катенька, жаль меня берет: ирод и тебя, и матку лупит, обирает, не шевельнет рукой сам — а вы молчок, словно так и надо… А знаешь ты, Вася: козленка-то утащил он на прошлой неделе Гурьянихе за самогон, домой ночевать не идет — так они искать его, две дуры, кинулись, нашли плачут, обнимают «родной ты наш, иди домой». Во оно как.
Баба Катя стукнула было своей клюкой что есть мочи, разинула рот, да тут же и захлопнула, быстро-быстро заморгала злыми маленькими глазами, и Василий увидел две крохотные серые слезинки, покатившиеся было, да тут же исчезнувшие в грязных морщинах. Он беспокойно зашевелился: ему стало жалко старуху. С дочкой ее Светкой он когда-то учился в одном классе и даже бегал за ней — веселой, бойкой, рослой не в мать и такой голубоглазой, что смотрел бы и смотрел: утренняя синяя кипень радовала душу. Вышла Светка замуж рано, муж работал в соседнем поселке на заводе, пил и скоро стал ее поколачивать. Еще годков через пяток сел в тюрьму — и навсегда исчез. А Светка не стала даже искать его; растила сына, жила с матерью. Сын, тоже оказавшийся после семилетки на отцовском заводе, и пить стал в отца. К тому же оказался хитрым, наблюдательным, изворотливым: понял, что при хорошем, отлаженном бабкином хозяйстве можно и не работать. А баба Катя была стожильна: корова, поросенок; торговля овощами, денежки у нее всегда водились. Ну, с год внучек болтался дома, ладно, до армии. А он из армии через пять месяцев явился, что-то там натворил и чуть не сел — и опять никуда не идет. Старуха и мать гонят, а Павлик посмеивается: видит, что души в нем не чают, а больше жалеют до смерти обе женщины. И — так и остался дома. Потихоньку-полегоньку спускала бабка хозяйство; теперь оставались коза и пара овечек. А вот и козленка внучонок пропил… Козу же и овец стерегли теперь по-очереди бабка и дочь, а уходят куда — огромный замок: продаст Павлик последнюю животину — нечем жить.
Сидит Василий, пытается вспомнить: кто же из них первый пить стал, мать или дочь? Пожалуй Светка: за компанию с сынулей, махнув уже на все рукой. Тверезая, крепкая, что твой кремень баба Катя, несгибаемая и вечная труженица, долго, долго держалась, а только за восемьдесят — запила и она. Василий еще спросил у нее в те дни, приметив это:
— А ты-то чего, баба Катя?
— А мне теперь все одно, буркнула старуха. — Веселей помирать будет.
Но помирать она и не думает: какой была, такая и есть. Только — в синяках ходит часто. Матери-то не привыкать, давно пьет, а старуха еще совестится, что внук колотит. А что плачут, обнимают его — тут-то все ясно: себя винят, прозевали парня, дали погибнуть. Так именно про себя понимал это дело Василий. С бабой Валей — другая история. Погиб муж, баба Валя, тогда-то ей было немного за тридцать, — стиснула зубы и продолжала работать в колхозе да растить двух дочек. Потом немного погуляла — жизнь взяла свое: сменила «двоих полюбовников», как говорила баба Катя. Замуж ни за одного не пошла. После сорока пяти не гуляла ни с кем, жила, — еще крепкая телом, перекипая в себе самой: ей показалось стыдным жить с мужиками в такие годы, на виду у взрослых дочерей.
Дочки росли у нее добрые, работящие, но ни старшая, ни младшая в деревне остаться не захотели: учились хорошо, уехали в города. Навещали мать редко и не слишком охотно: и далеко, и мужья попались мелко-сановитые, когда от поля ушел, а до мягкого кресла не дополз — серединка наполовинку, а у таких особенно много спеси и боязни деревни, из которой чаще всего и вышли. Дочери мужей за все, что они дали им — город, квартиру, выросшие на асфальте дети, — уважали сильно и одолевали в себе ради них любовь к матери. И потихоньку, поняв свое полное одиночество уже до конца дней; при живых-то и добрых, но далеких дочерях, непрерывно посылающих ей то посылки, то деньги, но не являвшихся к ней с живым лицом и голосом, — баба Валя стала попивать. Жила она по-прежнему в работе, поэтому водка не сильно сказалась на ней, но вот лицо стало совсем птичье — узенькое, только нос торчит длинный да вылупились глазы по слову той же бабы Кати. Теперь сестры пили вдвоем. Продолжали и после паралича, который три месяца назад разбил бабу Валю, но не шибко: ходить могла, только приволакивала правую ногу и с трудом шевелила правой рукой, да вот лежать стала часто.