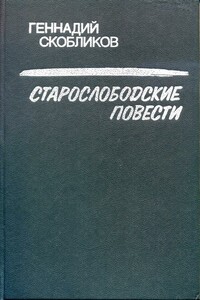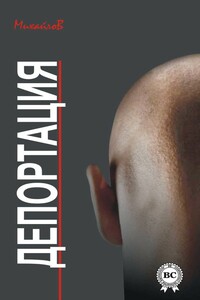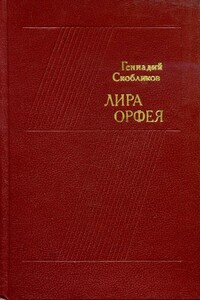На сорок шестом году, за несколько дней до смерти, Варвара говорила соседке бабке Насте, что ночью вспомнила, как мать Прасковья кормила ее, маленькую, грудью.
— И так явственно, Настя, так явственно!.. — умиленно повторяла Варвара. — Я потом до самого утра все думала про нее, царство ей небесное. И веришь, Настя, так отчего-то хорошо мне стало, что... так бы вот и умереть сейчас, не думая больше ни о чем.
Варвара заплакала.
— Ну и слава богу, — успокоительно говорила бабка, тоже до слез растроганная рассказом соседки. — Ты поплачь, поплачь — ослобони душу. И з м у ч и л о н т е б я. ...А Порка, царство ей небесное, я хорошо помню, тебя большую уже отымала. Ты вон как бегала — а все одно к груди лезла, так она полыном натирала соски, чтоб отучить тебя. Может, и правда помнишь...
Бабка Настя передала рассказ Варвары соседкам, и в тот день бабы по всей деревне только и говорили об этом. И, как принято в народе, когда речь заходит о смерти, — допускать веру в нечто таинственное, бабы — и старые бабки, да и кто помоложе — согласно заключили, что это покойная Прасковья з о в е т Варвару.
«Да и пора ей. Сколько можно мучиться!..» — участливо говорили люди, имея в виду свалившуюся на Варвару болезнь. — «Извел ее этот проклятый рак. А так бы — самое и пожить ей теперь...». «Теперь чего б ей не жить! Девки повыданы, малый тоже уже жених. Обуты и одеты...»
Вспоминали люди, что и ей, Варваре, тоже, было время, не сладко пришлось... ну да это, дескать, дело прошлое. И опять, с долей традиционной мистической веры во «что-то такое», обсуждали, к чему бы это привиделось ей.
И только сама Варвара не участвовала во всех этих разговорах и ни о чем не гадала. Лежала в хате, в своем закутку за лежанкой, и, по-своему счастливая в этот день, время от времени плакала то привычно безутешными, то легкими, светлыми слезами.
* * *
...На самом ли деле хранила ее память ту давнюю явь, или воображение нарисовало ее — но той ночью, блуждая памятью в давнем прошлом, она, считай, уже старуха, измученная болезнью и сама каждый день звавшая смерть, вдруг вспомнила себя маленькую на руках матери, расстегнутую на ней кофту, большую белую грудь... и опять себя, сосавшую эту грудь, и даже свою детскую ручонку, по-хозяйски вцепившуюся в терпеливое материнское тело. В полумраке и тиши ночи таким ясным — и таким далеким было это видение: в этой же самой хате, на этой вот деревянной кровати... но только там — в том далеком далеке. И было ей, смертельно больной женщине, в эти мгновенья та́к, что она и вправду помнит все это...
А потом опять только привычный полумрак хаты, мутно белели потолок и стены ее угла, белела высокая до потолка грубка лежанки, делившая горницу на две части, и там, в верху грубки, угадывалась черная задвижка вьюшки. За лежанкой, тут же в горнице, спал сын, ее девятнадцатилетний Колюшка, из-за болезни матери получивший отсрочку от армии, и она слышала его тяжелое сонное дыхание; за эти три месяца, как он привез ее из больницы (чтоб ей умереть дома, как хотела она сама), Колюшка тоже извелся с нею — что и лица на малом не стало.
Она лежала с открытыми глазами, видела и не видела эту привычную темень своего закутка, слышала дыхание крепко спавшего сына, слышала объявившийся вдруг стук старых настенных ходиков, мимолетные звуки улицы (собака на краю деревни долго на кого-то брехала, у бабки Насти в сенях отчего-то переполошились и и быстро затихли куры...), слышала и е г о в самом низу живота, этот клубок адской боли, пока вот притихший, но все равно жгущий, нудный, ни на минуту не дававший забыть о нем... слышала и помнила все, что есть, что будет... а самой хотелось, чтобы то, что только вот так счастливо вспомнилось ей, чтоб оно, дай бог, повторилось, и тогда она еще хоть раз посмотрела бы и на молодую мать Прасковью («Пришла — показалась... Скоро уж и я к тебе...»), и на себя — грудную («Надо же такому, господи!..»), а может, и еще что-нибудь увиделось бы ей из той давней их жизни...
Она лежала осторожно, чтоб не потревожить е г о, и напряжением до конца ослабленной мысли силилась опять зримо увидеть эту вот свою хату, но чтобы там — в дали давних-давних детских своих годов, и чтобы опять увидеть, как живых, мать, отца, себя маленькую... Но из ее усилий ничего не получалось. И тогда, чтобы продлить приятное, она просто вспомнила, как это только что виделось ей.
Помнила, что сидела мать, кажется, вот тут, на этой самой кровати, что кофта на ней была розовая и в какой-то мелкий цветочек, а белая косынка повязана узлом назад — как на молодайке! Да и сама она, мать, какой, должно, и молодайкой была: лицом полная, белая. А всего отчетливей запомнилось ей из виденного, как она, маленькая, вроде как выплюнула сосок — и из него, темного, брызнуло молоко и покатилось по розовой кофте матери белыми каплями...