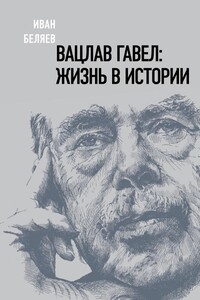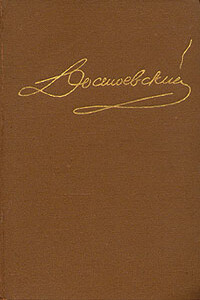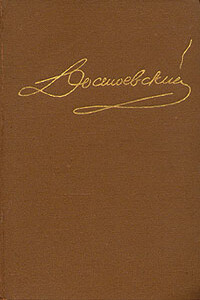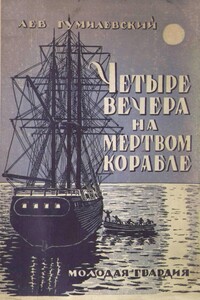АННА БЕРЗЕР
СТАЛИН И ЛИТЕРАТУРА
Главы недописанной книги
ПРЕДИСЛОВИЕ
"Книга Некрасова открыто и незащищенно противостояла всем законам и канонам тогдашней литературы. — пишет Анна Самойловна Берзер о повести Виктора Некрасова "В окопах Сталинграда". — Вспоминая потом о ней. он говорил, что в его повести нет ни генерала, ни политработника. В ней нет фактически Сталина. Только солдаты и офицеры и его некрасовский сталинградский окоп".
Слово "незащищенность" в статьях Анны Самойловны, в разговорах, которые она вела, встречается постоянно — в сочетании с именем Гроссмана, с именем Трифонова, с именем Твардовского, в "Новом мире" которого она проработала 12 лет, открыв целый пласт русской прозы и вернув русской литературе достоинство большого искусства и правды. Остро и всякий раз заново она ощущала незащищенность правдивого слова от лжи и ка жи. Любой из них: Некрасов. Грифонов, Гроссман, позже — Шукшин, Семин, Быков, Войнович, Искандер, Домбровский, Солженицын и многие другие — по чисто житейским меркам — был защищен лучше, чем она сама, хрупкая, скромная женщина, приезжавшая на Пушкинскую площадь, в свой "Новый мир", с московской окраины, где жили они вдвоем со старшей сестрой Диной Самойловной. Но не думая о себе, а лишь о том, что талантливого автора надо вывести к читателю, которого она ощущала рассеянным по огромной стране, по районным и прославленным библиотекам, она становилась на защиту талантливой вещи перед всеми инстанциями внутри редакции и вне ее, вплоть до высших государственных, ибо щупальцы запрета были эластичны и пробирались в подкорку и всепроникающим было дыхание страха. Страха в ней не было, а была выдержка и способность к атаке, даже вкус к ней, без праздного азарта и торопливости, только уверенность — раз правда сказана и пришла к ней в руки, значит ее, Аси Берзер, руками предназначено довести до людей эту правду. Восторг удачи (а вспыхнувшее дарование — всегда восторг) был для нее сигналом к действию.
"1-е рука прикасалась к текстам как орудие высшей справедливости, это была такая редакторская школа: оставлять только абсолютное", — пишет о ней Л. Петрушевская. По статьям А. Берзер можно восстановить нравственные и профессиональные уставы ее редакторской работы, но невосстановим тот воздух духовного общения, в котором протекала работа и который безымянно, но совсем небесследно оставался в подготовленных ею произведениях. Он не'запечатлен в них, они пронизаны им.
Сама она дышала воздухом русской литературы и ощущала, как ежеминутно, не прерываясь, творится ее история, и ей, Асе Берзер, выпадо счастье — пребывать в этом беге, в этом движеньи. То, что она сделала в отмеренный ей срок: вовремя разглядела, извлекла из потока рукописей, рвущихся в редакцию, подготовила, "пробила" и дала устоять на страницах журнала, который Твардовский сделал флагманом литературы, — эго целый этап российской словесности.
На титульном листе первого издания "Хранителя древностей" рукой Ю. Домбровского написано: "Дорогой Анне Самойловне. без которой эта книга конечно не увидела бы света. С любовью и благодарностью Домбровский".
Это — 1966 год. На титульном листе "Факультета ненужных вещей", впервые пришедшего из Парижа в 1978-м году, она прочитала уже типографски набранное: "Анне Самойловне Берзер с благодарностью за себя и всех других подобных мне посвящает эту книгу автор" и от руки: "...с огромным удовлетворением за то все-таки невероятное почти Чудо, что мы до этой книги дожили.
Ура. Анна Самойловна!"
Это было 26-го апреля 1978 года. Через месяц, 29-го мая, Домбровского не стало.
Вспоминая о своих первых шагах в литературе (это ноябрь 1944 года, третий месяц ее работы в "Литературной газете"), она пишет, как ей попалась детская книжка рассказов никому неведомого "областного" писателя из Таганрога Ивана Василенко. Рассказы ей понравились, и она захотела поддержать книжку. Поговаривали глухо, что Ивана Василенко похвалил Вересаев. Больше защиты искать было негде. О Вересаеве говорили, пишет она: "Стар, болен, увлечен переводами "Илиады” и "Одиссеи" Гомера. Что ему Иван Василенко?" Свою статью о Василенко 78-летний Вересаев продиктовал, посадив ее за свой письменный стол, и записывая за ним, она "уже чувствовала себя как бы изнутри его статьи, в полном слиянии с ходом его мысли и жизнью его души".
Эти слова — "в полном слиянии с ходом его мысли и жизнью его души" — формула ее редакторского самочувствия. Так было с каждой новой вещью. Это художественное перевоплощение и было ее искусством. Искусством особого рода, не имеющим наименования, но предполагающим безмолвие как условие приобщенности.
Когда спустя пятнадцать лет ей на стол легла рукопись безвестного школьного учителя под лагерным номером "Щ-854", ситуация эта была для нее уже привычной. Навык прохождения за полтора десятилетия отработан — он соотносился со шкалой ценностей, художественных и нравственных, продиктованных русской литературой. Эти ценности определяли линию поведения, и перескочив положенные ступени, она отдала рукопись прямо Твардовскому. И пошла всходить звезда Солженицына.