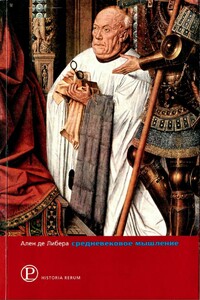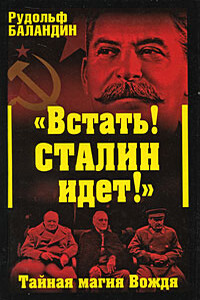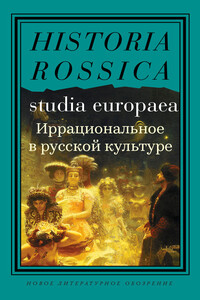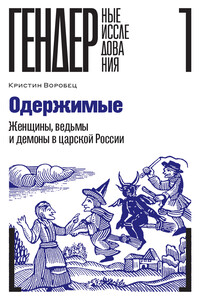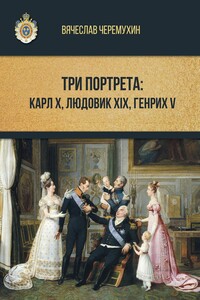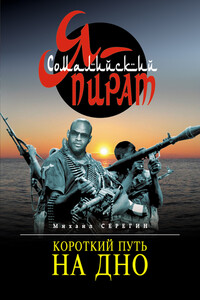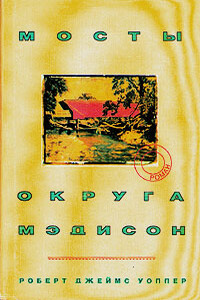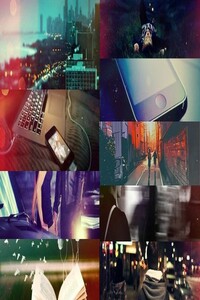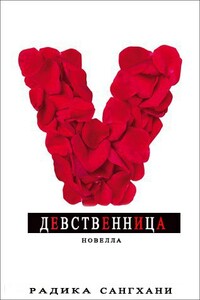Эта книга представляет собой эссе — размышление о месте средневековья в истории философии. Вместе с тем, это попытка проанализировать своеобразный феномен — появление «интеллектуалов» на грани XIII–XIV вв., феномен, наложивший отпечаток на всю последующую западную историю. Таким образом, эта книга не по истории и даже не по истории философии, она (во всяком случае, по замыслу) по интеллектуальной истории и посвящена тому, что, на наш взгляд, собственно и формирует интеллектуала как такового — опыту мышления.
Как недавно напомнил Беонио Брокьери, в Средние века слово «интеллектуальный» (intellectualis) применительно к человеку не обладало нынешним значением [1]. Это не столь давнее изобретение восходит, по сути, к XIX веку и к «делу Дрейфуса». Однако у историка для этого выражения есть своего рода «средневековая обоснованность». Разумеется, она есть в тех границах, в которых, во — первых, в Средние века существовал тип человека, к коему этот термин вообще приложим, и в которых, во — вторых, этому термину соответствует определенная группа людей — профессионалов умственного труда, мэтров, litterati, клириков. Во всяком случае, смысл термина «интеллектуал», заданный Ле Гоффом в книге «Интеллектуалы в Средние века» [2], таков. Благодаря социологическим и историческим аспектам смысла этого термина, отнесенного к людям, «работавшим со словом и мыслью», «жившим не на земельную ренту и не вынужденным зарабатывать ручным трудом», открылась возможность выделить и яснее рассмотреть процессы возникновения, а затем возвышения квазисоциопрофессиональной (лучше сказать, корпоративной) категории людей (существовавших в рамках определенных институтов — университетов, а то и вне их, если иметь в виду гуманистов XIII–XV вв., то есть «интеллектуалов в нестрогом смысле»), которые по — разному способствовали утверждению новой формы культуры, по существу не монашеской, связанной с «урбанистическим движением» [3].
С момента выхода в свет книги Ле Гоффа исследования об интеллектуалах в Средние века претерпели значительные изменения. Однако протекали они почти всегда в одном направлении — касательно ремесла, разделения труда, городского развития, социальных институтов, короче, в чисто социальной перспективе, раскрывающей кроме вопроса о взаимоотношении интеллектуалов и власти, по крайней мере, еще один — вопрос о роли и функции интеллектуалов в обществе. Позаимствовав у Грамши различение интеллектуала органического и интеллектуала критического, Ле Гофф тем самым обозначил рамки и способ чтения, который, прежде всего в Италии, дал бесспорные результаты [4]. Направленность этой книги иная.
Принимая во внимание, что феномен «интеллектуалов» существовал в Средние века и что его социологическая база достаточно хорошо определена [5], мы полагаем, что необходимо теперь описать и проанализировать другое явление — рождение интеллектуального идеала как такового, попытки его формулировок и предъявляемые к нему требования, условия его возникновения и точки его приложения. И уже через это рассмотреть философию, проследить ее историю и динамику развития.
Определяя главные черты интеллектуалов как университетских magistri, историк — социолог оставляет философу опасную проблему, которую можно сформулировать так: если средневековые интеллектуалы сами утверждали свое отличие (что часто подчеркивается), то перед нами встает задача представить мотивы и выявить основания, позволившие им так мыслить, так говорить, наконец, даже осмелиться на такое отличие. Установив, что «адекватность термина интеллектуал применительно к группе средневековых людей заключалась также в оттенке значения прилагательного интеллектуальный», в оттенке, хотя и подразумеваемом, но неоспоримом, а именно в том, что «употребление его в то время связывалось с добродетелью, познанием и удовольствием», Беонио Брокьери указал на возможную перспективу исследования. Она заключалась в том, что интеллектуалы Средних веков представляли себе свою особенность. И вот это их представление, это осознание, это «самоуважение» или скорее самооценка и должны быть теперь изучены. При этом существуют два пути. Один из них — углубиться в игру профессиональных притязаний: средневековый университет был переполнен корпоративистскими дискурсами; второй — попытаться вычленить притязание на интеллектуальность как таковую, то есть на такой идеал жизни, которому никакой социальный институт, в том числе и служивший ему приютом, не мог соответствовать.
Университетские интеллектуалы осознали себя как тип прежде, чем раскрылись как группа, и попытались определить то, что, в их понимании, должно было составлять жизнь философа. Сделав накопление и передачу знания, которое в своем греческом происхождении и в своем арабском продолжении было направлено на постижение мудрости, ремеслом, они должны были для самих себя разрешить определенные противоречия, связанные с тем институциональным пространством, в котором такая передача налаживалась. Средневековый университет не был, вообще говоря, школой мудрости, он был местом воспитания элит или, как говорит Ле Гофф, «питомником, взращивающим высокопоставленных чиновников», допускавшим реальную социальную мобильность лишь до определенного предела. Отношения, соединявшие магистра со своими студентами и бакалаврами, не были ни отношениями старого греческого мудреца со своими последователями, ни даже отношениями «профессора» со своими учениками в рамках еще мало изученных философских школ поздней античности. Кроме того, университет был институтом христианским, а это значит, что преподававший в нем философ исполнял функцию служебную, точнее подчиненную. На него возлагалась обязанность прежде всего подготавливать молодых людей к последующим, более углубленным изысканиям, — например, в теологии, — приносившим настоящие социальные блага, тогда как изучение философии само по себе не было ни целесообразным, ни доходным. Философское образование, дававшееся на «факультете искусств», было образованием пропедевтическим, открывавшим впоследствии, при условии его получения, куда большие возможности. В этой связи интересно отметить, что часть учащихся, несмотря на бедность и отсутствие перспектив, не покидала стен этого факультета, охотно сохраняя свой бессрочный «философский» status. Причины такого социального воздержания важны для нас не менее, чем само явление. Однако при всей важности фактора пренебрежения карьерой наиболее значимым было иное — распространение этой установки за пределами университета, а вместе с ней и части узаконивающих ее рассуждений и моральных требований. Иными словами, «органические интеллектуалы» задали жизненную модель, вышедшую за пределы институтов знания. Еще точнее, благодаря активности определенного числа посредников, этот идеал соединялся с устремлениями социальных групп, в цели которых не входило превращение своего мышления в ремесло, но которые, однако, желали личным опытом упрочить скрепленные философами узы добродетели, познания и удовольствия.