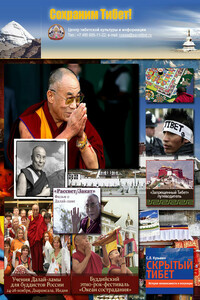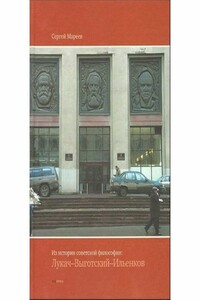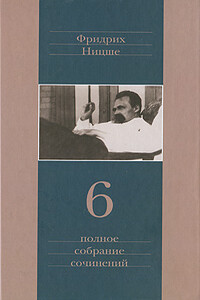Запрограммированные на заботу
Я не могу и не стану ни от чего отрекаться, ибо идти против совести несправедливо и опасно. На этом я стою и не могу иначе, и да поможет мне Бог! Аминь.
Мартин Лютер
Стоянка Ханьяни — это селение индейцев дене: около десятка бревенчатых избушек, приткнувшихся в лесу на берегу реки Наханни в Арктической Канаде[1]. Я стою на взлетно-посадочной полосе, дожидаюсь одномоторного «Бивера», который заберет меня в Форт-Симпсон. Ожидание, видимо, затянется, потому что явились «конники», конвоирующие арестованного, а у них преимущественное право на вылет[2]. Арестованный — молодой парень лет двадцати двух. Тихо-мирно сидит в наручниках. Слегка смущен, но в целом держится со спокойным достоинством. Что натворил? Неизвестно. От конвоиров никаких намеков: ни словом, ни жестом. Однако предположить я могу, кое-что в здешней жизни понимаю. Возможно, драка. Не исключено, что убийство. Двое конных полицейских и наручники — значит, дело серьезное.
Для арестованного эти края — дом родной, он всегда сумеет прокормиться и найти пристанище. Если для меня достижение — поставить палатку под пронизывающим ветром, то этот дене будто книгу читает и реку, и лес. Наверняка добыл не одного лося и не раз ходил на медведя — навыки для меня запредельные. Он знает, как пережить лютую зиму, которая длится по восемь месяцев. Я не знакома с ним, я понятия не имею, за что его арестовали, и тем не менее невольно принимаюсь придумывать для него историю со счастливым концом, в которой его не отправят в тюрьму и не запрут в четырех стенах, лишив реки, леса с лосями, друзей и близких.
Моя совесть отзывается болью, когда я вспоминаю, чем обернулся для народа дене «контакт с цивилизацией». Некогда многолюдные селения выкосила оспа, уничтожая вековой уклад, наработанные навыки выживания и общинные устои. Свои охотничьи угодья дене «раздарили» алчным захватчикам, которые спаивали старейшин огненной водой и глумились над их умениями. Во имя этой спесивой «цивилизации» детей дене отнимали у любящих родителей и увозили в интернаты за сотни миль от дома, где, разлучив с братьями и сестрами, били за разговоры на родном языке, единственном, который они знали[3]. Вспоминается Джексон Бирди, блестящий художник, отлученный в детстве от любящей семьи. Повзрослев, он чувствовал себя лишним и неприкаянным, навсегда оторванным от племени кри, но так и не принятым белыми. В 1970 году его произведения демонстрировались в Национальной галерее Канады в Оттаве, однако в день открытия выставки охранник не пустил его в здание[4].
А что, если взять и подойти к этому дене, завязать беседу? Нет уж, лучше не соваться. Какая самонадеянность, снисходительность, только чтобы потешить себя. С одной стороны, парень сочтет, что должен оправдываться и объясняться. С другой — растерявшимся полицейским придется решать, не спровадить ли приставучую дамочку обратно в бурьян, где она сидела до этого. Как я ни отговариваю себя, не могу отделаться от знакомого неприятного ощущения под ложечкой. «Сделай что-нибудь!» Но что тут сделаешь…
Будь я какой-нибудь ящерицей-одиночкой, меня бы это все не волновало. Никаких душевных терзаний, никакой совести. Добыть корм, поесть, спариться, отложить яйца — и все на этом. Другие ящерицы не моя забота, даже те, что вылупятся из отложенных мною яиц. Главное — удовлетворить собственные потребности, а на чужие плевать. Но я млекопитающее, поэтому у меня, как и у остальных млекопитающих, социальный мозг. Я запрограммирована беспокоиться и переживать, особенно за тех, к кому привязана.
Стараниями моего социального мозга у меня формируется привязанность к родным и друзьям. А значит, мне не все равно, как у них дела. Я способна на эмпатию, на сочувствие, а иногда и на праведный гнев. Меня можно мотивировать на сотрудничество, даже если оно требует от меня поступиться собственными интересами. Кроме того, мозг усваивает традиции моего «рода и племени». Соответственно, у меня может возникнуть побуждение сказать правду там, где выгоднее было бы соврать. Я могу испытывать желание наказать тех, кто мучает и притесняет слабых или облапошивает доверчивых. У меня есть совесть. Или, как я иногда это формулирую, мой мозг следит за тем, чтобы у меня была совесть.