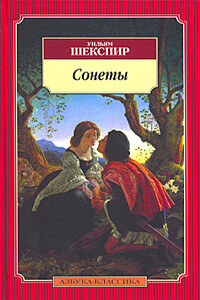СОНЕТЫ ШЕКСПИРА В ПЕРЕВОДАХ С. МАРШАКА[1]
Среди широких читательских кругов сонеты Шекспира были у нас до сих пор мало популярны, — в особенности по сравнению с его прославленными драматическими произведениями. И, однако, стоило только переводам Маршака появиться в журналах, как сонетами Шекспира живо заинтересовались советские читатели разных возрастов и разных профессий. Одна из причин заключается, несомненно, в том, что в этих новых переводах шекспировские сонеты, облекшись в одежды другого языка, сохранили свое звучание, свою мелодию. Чтобы убедиться в мелодическом разнообразии переводов, достаточно, например, сравнить тихую, сосредоточенную мелодию сонета 30:
Когда на суд безмолвных, тайных дум
Я вызываю голоса былого…
с горячим и вместе с тем сдержанным пафосом сонета 31:
В твоей груди я слышу все сердца,
Что я считал сокрытыми в могилах…
с грозными раскатами сонета 19:
Ты притупи, о время, когти льва,
Клыки из пасти леопарда рви…
с ясной и радостной музыкой сонета 130:
Не знаю я, как шествуют богини,
Но милая ступает по земле…
и почти «разговорной», чуть насмешливой интонацией сонета 143:
Нередко для того, чтобы поймать
Шальную курицу иль петуха…
Но не только каждый шекспировский сонет имеет свою мелодию. Мелодия часто изменяется внутри сонета. Или, говоря иными словами, изменяется тембр, интонация голоса, произносящего сонет. Мы сразу же узнаем этот голос. Недаром сам автор сонетов пишет о себе (в сонете 76):
И кажется, по имени назвать
Меня в стихах любое может слово.
Голос этот необычайно гибок. Откроем книжку, прислушаемся к сонету 33. В последней строке второго четверостишия голос повышается почти до пафоса, когда Шекспир говорит о тучах, которые ползут над миром омраченным,
Лишая землю царственных щедрот.
И вдруг интонация меняется, становясь ласковой, задушевной:
Так солнышко мое взошло на час…
В передаче этих живых модуляций состоит, как мне кажется, одно из главных достоинств переводов С. Маршака. И это, быть может, особенно важно при переводе Шекспира, который в сонетах всегда оставался драматургом, творцом многообразной человеческой речи. Сонеты Шекспира, по сравнению со многими другими сонетами той эпохи, ближе к монологам.
Напомним, что форма сонета была использована Шекспиром в его драматических произведениях. Так, например, первый диалог между Ромео и Джульеттой на балу у Капулетти написан в форме сонета. В данном случае метафоры, встречающиеся в этом сонете, представляют интерес только для специалиста, изучающего эпоху Шекспира: Ромео сравнивает Джульетту со святой, любовные признания — с молитвами, свои собственные губы — с «покрасневшими от стыда пилигримами». Так говорили в ту эпоху знатные юноши. Но тот, кто не вслушался в этот диалог и не расслышал робеющего и в то же время чуть насмешливого голоса Джульетты (ей немного смешна вся эта игра в «пилигримов» и «святых», или уж очень ей весело), тот не понял этих строк. Вот точно так же важно вслушаться в сонеты Шекспира, чтобы уловить оттенки, составляющие их эмоциональное богатство.
С. Маршаку принадлежит образная характеристика основной задачи, которая стоит перед художественным переводом: он сравнил поэта-переводчика с портретистом. Переводы сонетов Шекспира, как и другие переводы С. Маршака, не являются механическими слепками с подлинника. Это — творческие воссоздания. С. Маршак является продолжателем той традиции русского поэтического перевода, основоположником которой был В. Жуковский. Последний резко осудил мелочный буквализм: «Рабская верность может стать рабскою изменою», — писал он. Ту же мысль находим в словах Пушкина: «Подстрочный перевод никогда не может быть верен».
В целом Маршак точно воссоздает метафоры шекспировских сонетов. Эти метафоры очень разнообразны — от пышных сравнений в духе нарядного, «высокого» Ренессанса, до пестрых картин самой обыденной действительности, например, хозяйка, тщетно гоняющаяся за петухом, — из уже упомянутого нами сонета 143. Иногда метафора перерастает свои границы и как бы приобретает самостоятельное значение. Так, например, в сонете 75 из сравнения родится трагический образ скупца — образ, который так и просится на полотно шекспировской трагедии.
То счастлив он, то мечется во сне,
Боясь шагов, звучащих за стеною,
То хочет быть с ларцом наедине,
То рад блеснуть сверкающей казною.
Однако иногда поэт-переводчик сознательно отступает от некоторых деталей внешнего рисунка. В сонете 28, например, Шекспир чрезвычайно детализировал каждый «завиток» образа. Эта мелкая резьба по камню, заимствованная Шекспиром у эвфуистов[2], в данном случае не интересует переводчика-портретиста. Ему здесь важно до конца раскрыть подтекст, иными словами — передать поразившее самого поэта сходство возлюбленной со звездами. Сейчас такие сравнения показались бы избитыми. Но в эпоху Ренессанса они были открытиями. Так, например, в знаменитом монологе Орсино, которым начинается «Двенадцатая ночь», слышится искреннее изумление перед тем фактом, что любовь и музыка родственным друг другу. После аскетического и сумрачного средневековья не перед одними мореплавателями, но и перед поэтами возникали «новые небеса и новые земли», говоря словами шекспировского Антония. Маршак передал самое существенное «квинтэссенцию» подлинника: