О необычной, счастливой и в то же время трагической судьбе истинно народной певицы Плевицкой я знал довольно много (но далеко не все) из воспоминаний русских эмигрантов первой волны, довоенных публикаций газет Парижа, Берлина, но главная, тайная, тщательно скрываемая от посторонних жизнь Надежды Васильевны осталась спрятанной за семью печатями.
Почти четверть века я, автор ряда книг и пьесы о чекистах, литературной записи воспоминаний начальника Сталинградского УНКВД, добивался допуска к материалам Иностранного отдела ОГПУ — НКВД СССР 1930–1939 годов о Н. Плевицкой и ее муже Н. Скоблине, не раз обращался с ходатайствами в пресс-центр на Лубянке, но неизменно получал отказ: писать об интересующих меня лицах нецелесообразно по оперативным соображениям, материалы составляют государственную тайну, затрагивают частную жизнь и достоинство проходящих по делу лиц, и в соответствии с законодательством подобные сведения не подлежат разглашению.
Прошла вереница лет. Комитет государственной безопасности страны был преобразован в Межреспубликанскую службу безопасности, Агентство Федеральной безопасности, Министерство безопасности, затем в Федеральную службу безопасности России, и я наконец-то получил долгожданные документы.
На обложках серых папок Объединенного Государственного политического управления СССР с грифом «Строго секретно» было выведено каллиграфическим почерком: «ЕЖ-13 — «Фермер», «Фермерша».
Аккуратно пронумерованные, подшитые агентурные сообщения разведчиков-нелегалов из Парижа, Варны, Риги, Нью-Йорка, копии отправленных из Москвы инструкций, приказы с очередными заданиями, справки, вырезки белоэмигрантских газет о шумном политическом процессе 1938 года. Последними в папке были ходатайства о получении советского гражданства бывшего генерала Николая Скоблина и его жены Надежды Плевицкой, чей чарующий, завораживающий голос сохранили старые граммофонные пластинки фирм «Патэ» и «Амур».
Горек хлеб изгнанья
И круты чужие лестницы.
Данте Алигьери
Это казалось весьма странным, даже диким, но ко второму году заключения узница одиночной камеры женской каторжной тюрьмы во французском городке Ренн привыкла к несвободе.
Когда от одиночества, чувства безысходности становилось совсем невмоготу, хотелось кончить счеты с жизнью — затянуть на шее поясок халата, осколком оконного стекла перерезать на запястье вены, заключенная № 9202 прогоняла страшное желание. Начинала мерить камеру шагами и восстанавливать в тускнеющей день ото дня памяти пережитое, где были охапки цветов многочисленных поклонников, гром аплодисментов зрительного зала, восторженные рецензии в газетах, журналах, любовь и измена, бегство из объятой Гражданской войной России в пугающую неизвестность, гастроли в странах Европы, Америки, четыре замужества… Одновременно с греющими душу воспоминаниями о радостном, истинном женском счастье всплывало печальное, впрочем, без печали жизнь показалась бы неполной, обделенной. № 9202 старалась не думать о том, что привело к пропаже мужа, а ее на скамью подсудимых и в тюрьму (не желала бередить раны изболевшейся души), гасила все тщательно утаенное от следствия:
«Моя тайна не принадлежит мне, тайну следует позабыть, чтобы не дай бог ненароком не проговориться во сне. Обязана вычеркнуть из памяти все, что знала «Фермерша», — имена товарищей, явки, адреса, пароли и, главное, шифр! Все это должно умереть вместе со мной».
Каторжанка мысленно представляла, что находится в своем любимом загородном доме в Озуар-ля-Ферар, где уютно, до слез все трогательно. В такие минуты приходила необходимая в тюремном одиночестве безмятежность, которая ненадолго помогала забыть о зовущих в могилу мыслях. Единственное, что продолжало мучить, было непроходящее беспокойство о муже: где Коля, что с ним, раз не попал на скамью подсудимых, приговорен заочно, значит, сумел покинуть Францию, быть может, добрался до Москвы?
«Но тогда отчего молчит, не дает о себе знать, не подает сигнал, что товарищи с Лубянки ищут возможность вызволить меня из заключения, тайными тропами, несмотря на войны в Европе, доставить на Родину, как это успешно сделали с Сережей Эфроном?.. Почему Москва набрала в рот воды? Ведь «Фермерша» на допросах и процессе никого и ничего не выдала: ни известных ей адресов-явок, ни шифра — перед Родиной я безгрешна! Другая на моем месте давно ступила бы на тропу предательства, имела бы утешительный приговор, продолжала успешно вести концертную деятельность…»
Вспомнившийся Эфрон, муж поэтессы Цветаевой, тайный сотрудник ОГПУ, благополучно избежал во Франции ареста за участие в похищении (точнее, устранении бывшего агента-чекиста, ставшего невозвращенцем), чуть позже за ним в Москву уехали жена с сыном. По дошедшим слухам, Сергей получил престижный пост в Наркомате внутренних дел. Пребывая в полной изоляции от внешнего мира, каторжанка не могла знать, что в начале осени 1939 года арестовали дочь Цветаевой Алю, спустя два месяца пришли за Сергеем и расстреляли в Орловском централе, сын Георгий (Мур) погибнет в бою в первый год грядущей войны в России, дочь пробудет в заключении и ссылке семь лет…




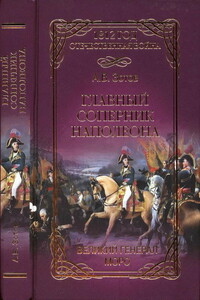


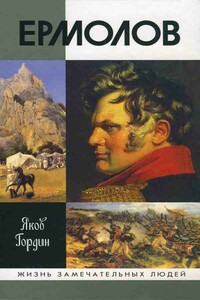
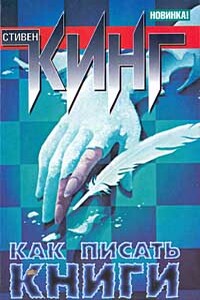
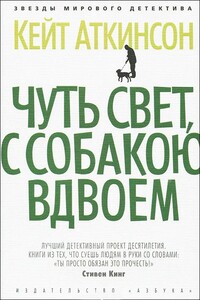
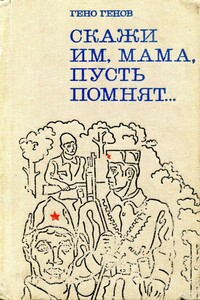

![Особо опасны при задержании [Приключенческие повести]](/storage/book-covers/fd/fdb29f8cf4cc4d28f2ab455165ab7e3a2834a9d0.jpg)