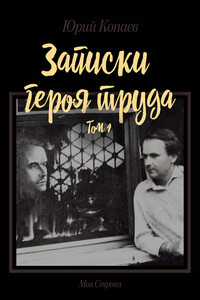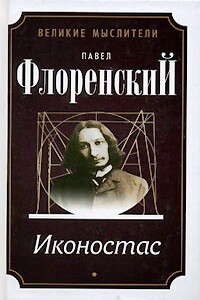ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ К БЛАГОЧЕСТИВОМУ БРАТУ-ЧИТАТЕЛЮ
Отца Исидора не стало с нами; не стало, — нет его. Благоухал, как цветок, — и скучно теперь, когда увял он. Светил нам, как ясное солнышко, — и померк свет. Был камнем веры; — где наша опора? Всему можно удивляться в нем — любви, кротости и смирению; нелицеприятию, прямоте и независимости; непритязательности, бескорыстию и бедности; ясности, мирности, духоносности; наконец, молитве. Но еще более того изумляет его надмирность. Был в мире, — и не от мира; был с людьми, — и не как человек. Он не брезгал никем и ничем, но сам — был выше всего, и все земное никло и жалко повисало пред его тихою улыбкой. Своим взором он изничтоживал все человеческие условности, ибо был над миром, — был свободен высшею, духовною свободою. Казалось, что он не по земле ходит, а подвешен на невидимых нитях к иной стране; от того-то весь он был исполнен внутренней легкости, и все тяжеловесное, земное, подходя к нему, само теряло свою давящую тяжесть. С легкою улыбкой, как бы играя, он мог опрокидывать человеческие условия общежития и — безнаказанно, на радость. Он мог позволять себе то, что выше условий праведности от закона, и делал это с такой ясностью, что всегда были действиями ознаменованными. Простое и житейское не было у него только таким; нет, от этого житейского и простого тянулись длинные корни в миры иные, к “новой земле“[1].
Теперь, мыслию и сердцем приникая к тому, “что видели очи наши и что осязали руки наши“[2], невольно углубляешься все более и более в жизнь о. Исидора. Все заметнее выступает ознаменованностьэтой жизни, и все труднее становится работа писания. То тонкое благоухание духовности, которое всегда облаком следовало за о. Исидором, непередаваемо никакими словами, тем более, что словесно, внешне говорить об о. Исидоре приходится слишком немного. Ведь жизнь его внешне была проста, — в ней не найдешь ни занятных случаев, ни увлекательных слов. Прости же, благосклонный читатель, предпринимаемую неумелую попытку; и если о. Исидор не покажется тебе Ангелом с неба паче, нежели человеком от земли, то возложи вину в том не на чтимого Старца, но на неумелость составителя сего Сказания. Чувствуешь что-то; кажется, — вот-вот схватишь истинное слово об о. Исидоре. Но написанное выходит всякий раз совсем не тем, что есть на самом деле о. Исидор.
ГЛАВА 1,
в которой благочестивый читатель извещается о келлии отца Исидора
Чтобы ты знал, любознательный читатель, как живет отец Исидор, соберемся-ко вместе к нему. Мы вышли из Обители Преподобного Сергия Радонежского, прошли Посад и затем пересекли поле, что около скитских прудов. Затем, перейдя мостик, Боголюбивую Киновию и лес, мы оказались меж скитов — Гефсиманского и Черниговского. Только, прежде нежели направиться к Старцу, не позабудем помолиться в подземном храме Черниговской Божией Матери, чудотворной святыне здешних мест. Ведь Старец так любит Ее, что наверняка спросит нас, были ли мы у Нее, как спрашивает об этом решительно всякого своего гостя.
Ну, а теперь пойдем без смущения в Гефсиманский Скит. Подымаемся по деревянной лестнице, проходим кладбищем. Вон, виднеется и домик о. Исидора.
Домик, в котором дважды (т. е. до и после Параклита[3], о чем, читатель, смотри ниже.) жил о. Исидор, в котором он и умер, расположен в правом углу (если считать от главного входа) Скита, у самой стены. Ранее этот домик принадлежал афонскому старцу Самуилу, в иеромонахах Иоанникию, а после Иоанникия — о. Авраамию, до того пробывшему много лет под землею, в так называемых “пещерах”, примыкающих к подземной церкви Черниговской Божией Матери, Домик о. Исидора — маленькая бревенчатая избушечка, состоящая из келлийки, в которой с большим трудом усаживались вплотную четыре-пять человек, да и то на маленьких скамеечках, “прихожки” (как называл ее о. Исидор), в которой едва-едва усаживались двое, и сеничек; кроме того, к прихожке примыкала клеть (в ней о. Исидор ставил самовар). И сенички, и клеть были невелики: самовар занимал всю клеть, а в сенях едва могли разойтись двое, и не толстых. Последние два года жизни о. Исидора к его домику пристроили еще холодные сени, — такие незначительные, что едва ли в них могут стоять два человека.
Но в этом игрушечном домике — много закоулков и уголков. Войдешь в него — и будто вспоминается-вспоминается, а все вспомниться не может, какой-то полузабытый, милый, любезный сердцу сон. Все — самое простое, нищенское; и все — особенное, теплое для взора, тихое. Вещи имеют свои глаза; и обстановка о… Исидора встречала взорами так радушно, провожала такими уветливыми взглядами. Как войдешь — прямо на тебя смотрят святые иконы. У каждой — своя история; каждая связана с каким-нибудь важным именем, но важным не здесь на земле, а в Царстве Небесном. Под иконами — поставец с иерусалимским перламутровым крестом, старым потрепанным Евангелием в кожаном — потертом и лоснящемся — переплете и лампадою на синей стеклянной стойке. Все стены келлии увешаны фотографическими карточками, — все людей связанных духовно с о. Исидором, — картинами, стихами, бумажками от леденцов. Все это — грошовое, но у о. Исидора ничто не бывает бесплодно. Все — символ горнего, все напоминает о высшем. Так и досточудный игумен горы Синайской, святой авва Иоанн Лествичник говорит, что Бого-любцам к радости и божественной любви и слезам свойственно возбуждаться и от мирских и от духовных песней, сластолюбцам же — наоборот