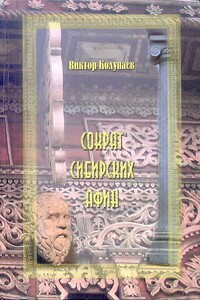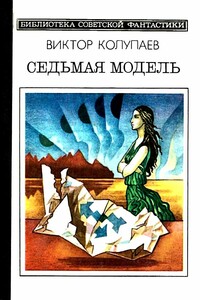На этот раз я не выходил из всех домов, не шел по всем улицам, не стоял в очередях, не ехал на автобусах и трамваях, не разговаривал всеми голосами сразу и, что самое главное, не думал мыслями всех.
Оно отпустило меня.
Я очнулся и понял, что поднимаюсь из Заистока к центральной улице мимо единственного на все Сибирские Афины общественного туалета. Стояла сушь, и в воздухе висела пыль. Жара одолевала, вода у продавщиц газировки была теплая, не стоило и пробовать. Асфальт плавился и легко растекался, пружиня под ногами. Я прошел мимо музыкального магазина, аптеки, Дома офицеров гвардии стражей, Пассажа. Часы Ареопага показывали, что сейчас в Сибирских Афинах время подлинной демократии. Но уже приближалась и пора олигархии. Да мне-то на все это было теперь наплевать!
Напротив Ареопага располагался небольшой скверик. Когда-то здесь будут производится массовые расстрелы индивидуальных разумов в пользу коллективного, но мода на это еще не пришла, и теперь тут стояло лишь несколько скамеечек для отдыхающих. Чахлые сосенки давали скудную тень.
Я сел на скамейку рядом с весьма пожилым человеком. Одет он был только в старый гиматий. И даже сандалий на нем не было.
Лысый, шишковатый, загорелый череп; плоский и широкий, но вздернутый нос; вывороченные губы. Глаза, когда он обратил лицо ко мне, оказались тоже чуть навыкате. И все же это несуразное лицо было чем-то даже приятно. Спокойной расположенностью, несомненным умом, внутренней интеллигентностью? Не знаю. Мне стало вдруг уютно с ним, словно прохлада какая-то разлилась вокруг меня.
Я старательно разглядывал свои кроссовки, слегка поворачивая их и так и эдак.
— Ты кажешься угрюмым, — наконец сказал старик, — взгляд твой уперся в землю. Похоже, что ты о чем-то серьезно задумался.
— Мне это тоже кажется, Сократ, — ответил я.
— Выскажи же, в чем твое затруднение? Может, вдвоем мы и продвинемся на шаг. Правда, само затруднение нам не разрешить, хоть убейся!
— Почему это? Ведь ты даже не знаешь проблему, над которой я бьюсь.
— Все проблемы неразрешимы, иначе о них не бились бы, а открывали, как хорошо смазанные двери, без скрипа и промедления.
— Ну, нет… Кое-какие проблемы все же можно решить. Иначе бы и жить не стоило.
— Но твоя-то, судя по всему, не из их числа. Заколочена так, что и не подступишься. Выскажи ее кратко.
— Я хочу знать, что такое Время.
— Блаженный ты человек! И это в твоих силах?
— Вот этого не знаю… Но ведь, наверное, бывает и с тобой такое, когда ты хочешь понять то, что понять невозможно.
— Как не бывать… Я вот все еще не могу, согласно дельфийской надписи, познать самого себя. И, по-моему, смешно, не зная пока этого, исследовать чужое. Поэтому, распростившись с надеждами познать остальной мир, я исследую только самого себя: чудовище ли я, замысловатее и яростнее Тифона, или же я существо более кроткое и простое и хоть скромное, но по своей природе причастное какому-то божественному уделу? И ведь понимаю, что это невозможно… И все равно надеюсь.
— А кто ты, Сократ? — спросил я.
— Твой вопрос ударил меня в лоб с такой силой, что там, в голове, наверняка перепутались все нейронные сети, и я теперь не знаю даже того, что знал ранее. Будь поосторожнее с такими вопросами.
— Да что же в моем вопросе особенного? — удивился я. — Я вот, например, знаю, кто я. Человек.
— А-а… Ты вот о чем… Определим ли мы теперь, что такое человек или оставим без рассмотрения? Если оставить без тщательного рассмотрения, то ты — это я, а я — это ты, возможно, что мы даже одно и то же.
— Нет уж, — воспротивился я. — Я — это только я, а ты — это только ты.
— Тогда, видно, одной лишь человечистости мало для того, чтобы различить нас с тобой. А то ведь и еще хуже бывает. Как-то у Платона спросили тоже вот: что такое человек? Платон и дал определение, имевшее большой успех: “Человек есть животное о двух ногах, лишенное перьев”. Тогда бомж Диоген, который без прописки жил в бочке, ощипал петуха, принес к нему в Академию и объявил: “Вот платоновский человек!” После этого Платоном к определению было добавлено: “И с широкими ногтями”. И все бы хорошо, но тут в садах Академа отловили снежного человека, существо, скажу тебе, дикое и злобное. И представь, именно с широкими, да еще и не остриженными ногтями. Сибирские афиняне ни в какую не захотели признать его человеком. Платону позор. Академикам чуть ставки зарплат не поурезали. Народ бурлит, требует сатисфакции. Платон, хоть и был уже стар, но все же вывернулся, дал полное определение: “Человек — существо бескрылое, двуногое, с плоскими ногтями; единственное из существ, восприимчивое к знанию, основанному на рассуждениях”. И сибирским афинянам лестно стало, что они восприимчивы к знанию, основанному на рассуждениях. Их хлебом не корми, только дай порассуждать.
Пока я напрягал свой ум, пытаясь осознать, все ли хорошо в определении человека, данном Платоном, на сосенки сквера опустилась стая ворон. Они подняли такой гвалт, что вначале я ничего не мог понять. Но вот среди них возникла некоторая упорядоченность. Одна из ворон оказалась на нижней ветке и не по своей воле, так как вторая — нечто вроде стража или охранника — не позволяла ей ни взлететь, ни переменить место. Остальные расположились повыше и разгневанно выкрикивали обвинения: в воровстве Времени у своих, захвата чужого Пространства, попытке вооруженного переворота Вселенной с ног на голову, тайном сговоре с индивидуальным разумом, шпионаже в пользу сорок и даже просто в самом факте существования несчастной обвиняемой. Насколько я понял, вороны совмещали в себе должности и обвинителей, и судей, и исполнителей приговора. Та, проштрафившаяся во всем, пыталась оправдываться, утверждая, что она является истинным и верным материалистом, но голос ее от страха срывался, да и убедительных карканий она не могла найти, а может, в данном случае их и не существовало вовсе.