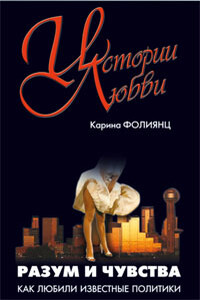Не получи я наследство, не было бы этой истории… Мой дедушка еще при жизни готовился оставить о себе вечную память. Самолично диктовал бабке речи для своих выступлений. Она записывала в тетрадку и потом читала ему же вслух: «Дорогие товарищи! Рано лишился я родителей, меня воспитали советская власть и Коммунистическая партия, в рядах которой состою более полувека…» После его выступлений бабушка любовно собирала в альбом газетные вырезки: «Генерал-лейтенант И. Я. Коло-дин на встрече с курсантами высшей школы милиции», «Генерал-лейтенант И. Я. Колодин на встрече с ветеранами партизанского движения Волынщины»… Дедушка позировал в парадном мундире, для которого скопил столько орденов и медалей, что из-под них даже не проглядывало сукно.
Он давно вышел в отставку, бросил пить и курить, жил с почетом в городе Киеве, сокрушаясь только о том, что никого не сделал в своей семье врачом. Получалось, что он не позаботился о своем здоровье. Он доверял только военным врачам, хоть в детстве как раз фельдшер в военном госпитале, куда отвел меня дедушка, на осмотре повредил мне барабанную перепонку, так что стал я на одно ухо глуховат и, вероятно, от ущербности начал сочинять стихи. Дед, у которого внуков больше не было, хотел определить меня в военно-медицинскую академию – и обещал обеспечить, если исполню его волю, но, когда мама сообщила ему, что «в мальчике проснулся поэт», помолчал и сказал как будто в последний раз: «Дурак». А я уже натруживал по одному стихотворению в день и мечтал обессмертить свое имя. Повеситься как Есенин… Застрелиться как Маяковский… Погибнуть, не получив высшего образования.
Не помню, как сдавал выпускные экзамены в школе, но уже через несколько дней трудоустроился грузчиком в продуктовом магазине, думая, что проник в тайники жизни, прямо в бездну, полную страданий. Я воображал себя и Джеком Лондоном, и Достоевским в ее мрачных подвалах с морожеными курами, по которым бегали мыши, похожие на маленьких серых демонов. Моя старшая сестра, получившая университетский диплом на историческом факультете, фыркала: «Ты опустился на дно!» Когда мама сообщила дедушке об этом, он просто повесил трубку, казалось, окончательно потеряв к моей судьбе интерес. Заботами сестры через месяц я все же несколько остепенился: она устроила меня грузчиком в Государственный исторический музей, и я носил на руках каменных скифских баб, надрывался под троном московских царей, тащился с этажа на этаж с бердышами времен Ивана Грозного… Но первый свой рассказ я написал о дедушке, о его подвигах… Это была глуповатая тщеславная надежда – что тогда уж он простит меня и даст куда надо команду, чтобы рассказ опубликовали, ну хотя бы в газете «Советский милиционер»… Я послал ему свое творение по почте, будто в редакцию взаправдашнего литературного журнала, а мне пришел ответ, писанный бабушкой не иначе, как под его диктовку: «Ой, внучек, а дедушка произведение твое потерял, никак не найдем, да и советует он тебе, бросай ты это дело и скажи от нас матери, чтобы бросила курить… Алка, слышь, брось эту отраву! Слышь, не кури!»
Тогда я думал, что дедушка сделал это из ехидного безразличия ко мне, и только с годами начал понимать: ведь я, того не думая, умыкнул неизвестно куда – что дед, не любя и не понимая, называл «брехней собачьей» – его кровные воспоминания, вместе с «Феликсом Эдмундовичем», которого он так любил цитировать, и «дорогими курсантами». Меня забрали в армию. На деда я обиделся, а приехал уж – на похороны. «Ну вот, теперь можешь писать… – вздохнула бабушка, исполняя его волю. – Он сказал: помру, пусть тогда и брешет обо мне, что хочет».
Дядька на третий день после похорон не вытерпел: приехал с чемоданом за дедовой финской дубленкой. Бабушка стояла на страже одной ей ведомой воли. Согласно этой безмолвной воле, хоть не было завещания или чего-то похожего, поделила она все наследство непонятно как: дядька уехал восвояси с пустым чемоданом, но с двумя трофейными охотничьими ружьями под мышкой; другому брату, младшему, отошли все дедовы костюмы, ботинки, электробритвы да очки; моей сестре досталась огромная фарфоровая ваза, подаренная деду от органов на очередной юбилей, весь изящный вид которой портила золотушная накладка – знак охраны порядка; меня бабушка заставила примерить дубленку; матери вручила какой-то сервиз. Через год, когда стало возможным снять со сберкнижки тайный вклад деда, пришла к нам в Москву переводом от бабушки тысяча рублей. Так она оделила детей, а неизвестно уж сколько – вложила в памятник. Всех денег, скопленных дедушкой, и хватило на его мраморное изваяние в парадном генеральском мундире. К тому времени успели отменить руководящую роль партии, но бабка все же распорядилась высечь на могильной плите: «Член КПСС с 1924 года».
Сестра вышла замуж, и новая семья во многом нуждалась. Мама отдала ей семьсот рублей, а мне, во исполнение опять же непонятно какой воли, вручила оставшиеся триста – мою долю наследства. Шел девяностый год, я прозябал – нигде не работал и не учился. По ночам что-то вымучивал, а наутро написанное было противно прочесть даже потому, что противным казался мне мой неуклюжий почерк, со сваленными в кучу, будто обожратыми и пьяными, буковками. Мама болезненно ждала, что я сделаю с деньгами, наверное, рассчитывая, что раз мы живем вдвоем, да и бедновато, то я возвращу ей эти триста рублей. И тут я впервые сказал ей о пишущей машинке… Что раз я хочу быть писателем, то мне нужна пишущая машинка… Она стерпела и узнала для меня адpec магазина пишущих машинок; в Москве тогда не закрыт на ремонт был только один – на Смоленской.