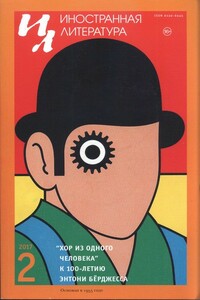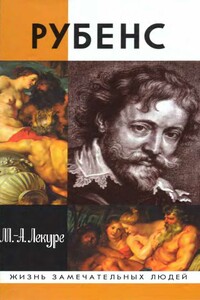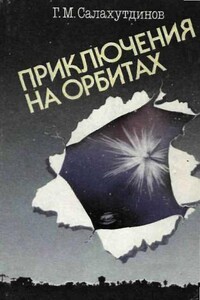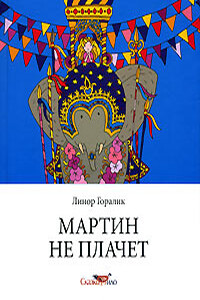Линор Горалик
Смотри, смотри, живая птица
Настику
Баллада
Я, знаешь, сегодня видел одновременно любовь и смерть. Я шел в школу и видел мертвого голубя, там, наискосок от памятника, ну, где я дорогу перехожу. Он был не раздавленный, - я не буду, не буду, я же говорю, - не раздавленный, а просто мертвый, от болезни или от старости. И вот я там перехожу, а передо мной парочка идет, немолодые уже, и она на голубя чуть не наступила и так споткнулась, а он ее подхватил под локоть и говорит: "Господи, ну какая Вятка, ты без меня даже на улице падаешь и нос себе расквашиваешь, вот сейчас бы упала и расквасила бы, разве нет?"
Лошадь и лента
У стены дома стояла лошадь, обнесенная красно-белой полицейской лентой. Само присутствие лошади здесь, посреди московского спального района, было дико, лента же возводила ситуацию в ранг совершенного абсурда. Лошадь перебирала ногами, глаз, обращенный к Аверченкову, смотрел осмысленно. "Гадость какая!" - почему-то подумал Аверченков, и удивился, - чего же гадость? Потом вдруг понял - из-за ленты, ощущение было, что лошадь попала в аварию, что ли... "Или что через нее прокладывают траншею". Влад представил себе, что в лошади выбиты окна, а бок смят в гармошку, и из-под потрескавшейся черной шерсти проблескивает заголившийся металл. Картинка была жуткая, но признаваться себе в этом Аверченков не хотел и даже улыбнулся натужно, как будто ему забавно. Он сел в машину и продолжал смотреть на лошадь. Лошадь медленно поворачивала голову следом за ошалело обходящим ее соседским ребенком. Аверченков завел развалюшку и начал выворачивать вправо, и тут вдруг соседский ребенок дернул головой, как будто его позвали, - наверное, его позвали, подумал Аверченков, - и бросился на зов прямо перед машиной. Аааааах, - сделал желудок Аверченкова, руки рванули руль вправо, мальчишка проскочил и помчался, и Аверченков почувствовал, как обмякают мышцы и в голове грохочет барабан, и выключил мотор, и прикрыл глаза. Прекрасно начинается утро, подумал он, роскошное такое утро. Когда он открыл глаза, перед автомобилем стояли люди, и взоры их были люты и бездонны. Ничего не понимая, Аверченков посмотрел в зеркало заднего вида. Там тоже стояли люди. Половина смотрела на него, а половина - на его бампер. Что-то изменилось в пейзаже. Аверченков вышел из машины. Какой-то мужик неловко кашлянул и сказал мрачно: "Ты, главное, не переживай, я видел, ты не мог, или она, или пацан, я этих ребят знаю, я им так и скажу, ты не нервничай". У бампера лежала лошадь. Вместо бока у нее была большая неровная вмятина, и сквозь разорванную черную шерсть проступала красная вода.
Город-сад
- Ты знаешь, это все-таки потрясающее ощущение - возвращаться к знакомому телу. Как домой, ужасно трогательно, аж горло щиплет. Сколько же это мы с тобой не спали? - Года три. - Ой, ну что ты, какие три, три я уже в "Амале" работаю, гораздо больше. Давай посчитаем. Алику сейчас сколько лет? - Три через месяц. - Ну вот, значит, а сколько вы встречались с Аленой, года полтора? - Нет, какие там, больше, года два с лишним. - Ну правильно, а в Анталию вы поехали, когда уже где-то год встречались, да? Значит, полтора да еще два с половиной - четыре. - А что Анталия? - Ну господи, ты не помнишь? Налей мне молока, плиз. Все, все, все!.. Да, ну, вы же тогда вернулись, и она сразу поехала к родителям или куда там, а я вас встречала на вокзале, и мы поехали к тебе - чемоданы разбирать. Вот тогда. - Да, правильно, я помню, я еще тогда вернулся потом на вокзал и искал нашу сумку бежевую, и, представляешь, где она ее оставила, там и нашел. Я тогда повез ей эту сумку к бабушке, там лекарства были, какие-то травы, у бабушки была ишемия, и Алешка по всей Анталии моталась, искала тот магазин, что нам сказали. Я приехал к бабушке, мне открыла Алешкина мать и что-то такое сказала, я уже не помню, что-то что вот, Алешка в детстве чего-то там, ну, похожее, с чемоданами. А она стоит сзади и говорит: "Мама, не черни мое имя, он меня разлюбит!" - и смеется. И я вот тогда первый раз вдруг, - ну, непонятно, с чего, - я представил себе, какая она маленькая была, и, знаешь, почему-то пальчики себе представил, крошечные, теплые такие... Я вот помню до сих пор. - И что? - Что? - Дальше, ты рассказывал и замолчал, продолжай. - А, нет, все фигня, слушай, ты лежи, я домой позвоню.
Мы
По пустому школьному корридору неслась девочка. Я смотрела на нее из ниши в стене и понимала, что ее гонит любовь. Я совершенно не могла представить себе, что именно заставляет ее так невероятно бежать, так лететь, лететь, так плескать широкими рукавами и закидывать пятки, так бежать, чтобы ее грудь опережала ее бедра, чтобы немедленно упасть если, не дай бог, что-то попадется ей под ноги, но я понимала, что, какими бы ни были конкретная причина и конечная цель ее восхитительной спешки, ее гнала любовь. Она с трудом затормозила около моей двери, занеся ногу на высоченной резиновой платформе почти на уровень бедра, быстрое-быстрое дыхание заставляло дрожать нахимиченные кудряшки, и мне из моей ниши была хорошо видна влажная спина между ярко-голубым поясом и низом короткой, обтягивающей футболки. Она вся была, как наполненная жизнью игрушка, аккуратно смонтированный, здоровый, сильный, легко регенерирующий механизм. Я ждала, что она немедленно дернет ручку, ворвется, заговорит поспешно и путанно, или, наоборот, выпалит одну какую-то фразу, и пыталась угадать, какую, с какой же фразой может мчаться семиклассница в кабинет завуча, потея, взмахивая локтями, тряся кудряшками. Но девочка не дернула дверь, нет, а наоборот, вдруг отошла от нее на пару шагов, пытаясь справиться с дыханием, и даже согнулась пополам, как спортсмен после забега, ловя воздух губами, покрытыми нежным лиловым блеском. Наконец она справилась, тщательно утерла лоб и виски, пальчиком длинно промокнула верхнюю губу, - смешной и трогательный жест, я увидела сразу, как она, еще малышом, утирает пальцем сонные утренние сопли, - пробежалась ладонями по кудряшкам, одернула маечку, переступила с ноги на ногу и деликатно, тихо постучала. Естественно, я не ответила ей из кабинета, - я сидела тут, в нише, и глядела, как она, пролетевшая мимо меня, осторожно заглядывает внутрь, в кабинет, который пуст. "Что, - говорю я, высовываясь из ниши, - что, Света, у тебя болит? Мигрень? Понос? Менструация? Перелом лодыжки? Прободение язвы?" Она вскрикивает от испуга и разворачивается прыжком. Глаза у нее фантастические, спешащие и влюбленные, как голуби. "Что ты прогуливаешь?" - спрашиваю я. "Биологию", - говорит девочка, и в ее голосе мне слышится легкий, едва различимый, прекрасный, юный вызов. "Биологию." - говорю я, - "Хиромантию. Генетику, медгерменевтику." Она молчит, насупившись, и надежда вытекает из нее с тонким, тихим свистом. "Света, - говорю я, - учти: это один-единственный, уникальный и неповторимый раз. Следующий раз, когда ты явишься ко мне с головоногим воспалением, не знаю, коронарного менингита, я пошлю тебя к медсестре, и не отпушу тебя без ее справки, даже если ты будешь истекать кровью на пороге моего кабинета. Ты понимаешь меня?" Она смотрит ах, как она смотрит, и слова "спасибо-алена-викторовна" растворяются в запахе ее духов и кожи, волос и пота, ибо там, где она стояла, остался только этот запах и след от голоса, и больше ничего.