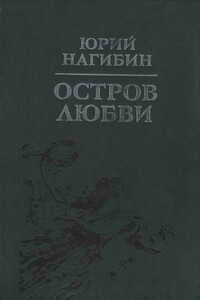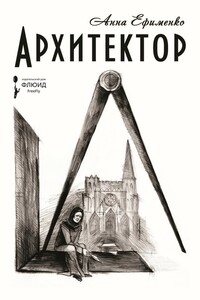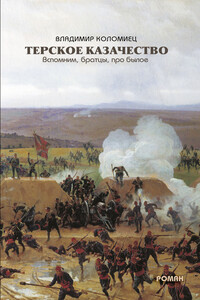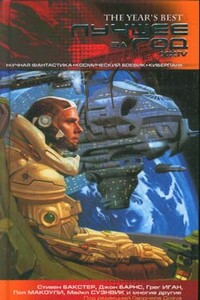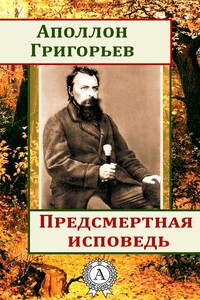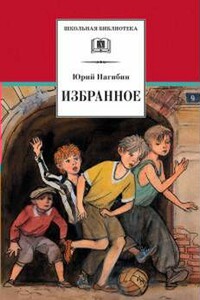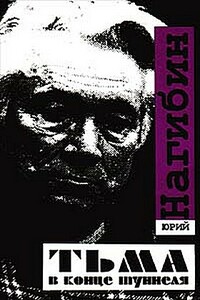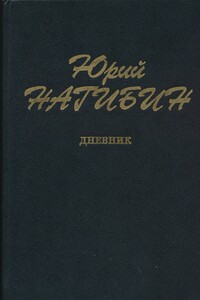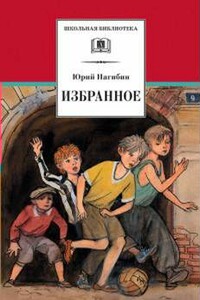Лучше было бы остаться дома. После утреннего чая, когда Иннокентий Федорович встал из-за стола и церемонным поклоном поблагодарил жену, ему нехорошо — внезапно и как-то слишком уж бесцеремонно — сдавило сердце. Он побледнел, закрыл глаза, проглотил сухую, горькую слюну и сжал пальцами спинку стула.
— Что с тобой? — Испуг жены отдавал усталостью.
Она давно устала бояться за него, устала от его хрупкости, замкнутости, вежливости, за которой проглядывало ровное, спокойное отчуждение, устала от невольного и неослабного давления сильной и запертой на засов внутренней жизни человека, с которым, если верить церкви, была единой плотью и духом единым.
Приступ минул раньше, нежели жена успела накапать лекарство в рюмку. Сердце вырвалось из тенет, как птица из кулака, и обрело волю. Анненский отпустил спинку стула, ласково, но решительно отстранил руку жены с пахучим лекарством и прошел в кабинет. Сердце билось чуть сильнее положенного, но это было даже приятно. Оно трудилось, как старый, износившийся, но все еще прочный, приработавшийся насос, вгоняя кровь в узкие канальцы артерий и вен. Анненский не испытал страха, он давно, еще в юности, узнал, что у него неизлечимо больное сердце. Тогда открытие это было мучительно, но с годами он успокоился. Он жил как все, не думая о своем ущербе, и если избегал излишеств, то не из боязни или слабости, а по здоровой уравновешенности, брезгливо отвергавшей дурман страстей, вина и никотина.
Больное сердце не мешало ему любить и подчинять своей воле людей, работать до изнурения, упоенно творить и плакать над стихами. А вышагнув за половину житейского пути, он твердо уверился, что ему отпущен не мотыльковый, а достойный человека срок, и стал находить даже известное преимущество в хвори, населяющей от рождения его грудную клетку. Он отличался от людей, не имеющих сердечной болезни, лишь тем, что знал, от чего умрет, здоровым же такое знание не дано. Это освобождало от многих страхов. Ну хотя бы — ему не грозил рак. После «Смерти Ивана Ильича» самая мысль о раке стала нестерпимой. Он умрет опрятно и быстро, не измучив ни себя, ни близких, ни сиделок отвратительным, медленным распадом плоти. Истинный классик, Анненский выше всего ценил форму, строгость линии, соответствие сути. Классически строгая жизнь, классически строгая смерть. Он умрет от сердца — это его устраивало. Не от желудка, не от почек, не от печенки и селезенки, не от изъеденных чахоткой легких, от сердца, как и следует умирать жившему полным сердцем. У того, кто умел скорбеть скорбями своего века, сострадать не только близким, а всем страждущим, кто мог заплакать над неведомой старой чухонкой, потерявшей сына, и даже над деревянной куклой, которую потехи ради бросают в водопад Валлен-Коски, сердце должно рано или поздно разорваться.
— Но только не сейчас! — громко произнес Анненский в пустоту кабинета.
Он сказал это строгим, внушительным и глубоким голосом, каким обращался к гимназистам Николаевской гимназии в пору своего директорства.
Этот голос безотказно действовал на гимназистов, даже самых тупых, развинченных, циничных, затрагивая те слои души, которые не бывают до конца очерствевшими в молодых существах. Анненский коротко, по-детски фыркнул. Подобную разоруженную усмешку он позволял себе лишь наедине с самим собой. Сколько же в нем самообладания и самоуважения, если к судьбе, року, тайным силам, отмеривающим человечий век, он обращается, словно к нашкодившим школярам!
И дабы окончательно задушить в вырвавшемся из груди заклятье мыший писк испуга, он спокойно и задумчиво повторил: «Нет, только не сейчас». Сегодня наконец-то должно было выйти решение о его отставке с казенной службы. Тридцать пять лет жизни отдал он отечественному просвещению, пора и на свободу. Впрочем, с просвещением он не порвет окончательно, будет и впредь преподавать древние языки на Высших женских курсах Раева прелестным, нежным, юным существам, безраздельно принадлежащим настоящему. Но с инспекторской деятельностью покончено навсегда. Следовало бы раньше это сделать, но казалось дезертирством уйти с поста, когда классическое образование подвергается столь ожесточенным нападкам. Слепцы! Они думают, вытеснив гимназии реальными училищами, переделать русского человека в сугубого реалиста и практика, который немецкую обезьяну наново изобретет. Конечно, глупо в двадцатом веке отвергать науку, инженерию, насущную потребность для людей точного знания. Это нужно и это будет, независимо от того, хотим мы или нет. Но речь идет о другом — о создании ведущего человеческого типа нации, воплощающего ее духовность. Классическое образование сформировало Пушкина с его ясным, дисциплинированным, уравновешенным умом, с его гармоничной, высокой душой… Отмените классическое образование и прощайтесь с мечтой — не о новом Пушкине, второго Пушкина, быть не может, но о пушкинском типе человека и художника, до дна русском, но освобожденном от национальной косности и распущенности, равно и от узкого, алчного практицизма, — девятнадцатый век воочию показал, что у славянской горлинки быстро отрастают хищные когти. Коромысло легко плечам, когда оба ведра полны. А если одно пусто, ох как перекосит, переломит девицу-Россию! С отменой классического образования если и не вовсе погаснет, то поблекнет скорбно русская интеллигенция. Технический интеллигент — нонсенс. Интеллигент — это Сократ, Сенека, Цицерон, а не специалист по паровозным топкам.