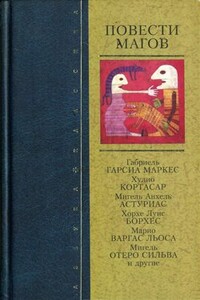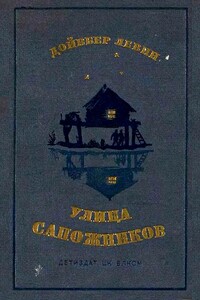Поди знай, как это рассказать: то ли от первого лица, то ли от второго, а если попробовать от третьего и во множественном числе? А может, писать и писать, как поведет, но кто разберется? Вот если б допустимо сказать: «Я увидели луна всплывать» или: «Нам, мне больно глазные дно», и особенно вот это «Ты, она – белокурая женщина, были облака, которые по-прежнему плывут пред моими, твоими нашими вашими лицами». О, черт!
Вот бы хорошо, начав рассказ, отправиться в бар и спросить там баночку крепкого пива, а машинка пусть стучит сама по себе (я ведь пишу сразу на машинке). Вот бы хорошо! И я вовсе не шучу. Чего бы лучше, ведь то, главное, о чем я собираюсь рассказать – это тоже машина, впрочем совсем другого свойства (это – «Контэкс» 1.1.2) и, наверняка, одно механическое устройство поймет другое скорее, чем я, ты, она – белокурая женщина и облака. Судьба благоволит ко мне в разных глупостях, но тут – какие надежды, я же прекрасно понимаю, что без меня мой «Ремингтон» сразу застынет, окаменеет с тем удвоенным упорством, какое есть во всех остановившихся механизмах, которые мы привыкли видеть в движении. Словом, размышляй не размышляй, а писать придется мне. Кто-то из нас должен написать об этом, коль оно того стоит. И пусть лучше я, раз я – мертв и значит, менее других причастен ко всему. Пусть – я, раз вижу теперь одни облака, и ничто не отвлекает меня от мыслей, от этого рассказа (а сейчас ползет другое – с серой кромкой), ничто не мешает рыться в памяти, пусть – я, раз я – мертв (и, разумеется, жив, зачем лукавить! Все прояснится в свое время, надо лишь взяться наконец за рассказ, вот я и начал с того, что уже написалось, то есть, с самого начала и, пожалуй, именно так следует начинать, когда хочешь рассказать о чем-то).
И почему я вдруг засомневался, стоит ли вообще рассказывать об этом? Но если задаваться вопросами почему делаешь то, что делаешь, или спрашивать себя, зачем согласился пойти на ужин, (теперь пролетает голубь, и еще, похоже, – воробышек) или почему начинает зудеть в животе, когда тебе расскажут этакий анекдотец, и почему ты не успокоишься, пока не войдешь в соседний отдел и не расскажешь его остальным; вот тогда явно полегчает, тогда ты, вполне довольный собою, займешься наконец делами. Насколько я знаю, пока еще никто этого не объяснил, и, стало быть – нечего стесняться и разводить антимонии, надо рассказать так, как все было, ведь никому не зазорно дышать или надевать ботинки, раз это в порядке вещей, а если с тобой случается что-либо особенное, ну, скажем, вдруг обнаруживаешь в ботинке паука или, допустим, в легких, при вдохе слышен треск битых стекол, – вот тут скорее рассказать, рассказать приятелям по работе или врачу. «Ах, доктор, когда я делаю вдох…» Рассказать во что бы то ни стало, рассказать, чтобы избавиться от этого противного зуда в животе.
И коль скоро мы приступаем к рассказу, пусть в нем будет какой-то порядок, сначала мы спустимся вниз по лестнице моего дома в ноябрь седьмого числа, которое было ровно месяц тому назад, в воскресенье. Ну что ж, спускаемся с пятого этажа, и нас встречает воскресенье и небывалое для парижского ноября солнце, и как никогда хочется бродить по городу, смотреть по сторонам, фотографировать (потому что мы были фотографами, я – фотограф). Я знаю, что всего труднее найти форму для этого рассказа, знаю и не боюсь повториться. Труднее всего потому, что не разобрать, кто, собственно, ведет рассказ, я или то, что произошло, или, наконец то, что вижу сейчас (облака, а порой – голубь), а вдруг я просто рассказываю ту правду, которая останется только моей, и тогда от этой правды хотя бы перестанет так щекотно свербеть в желудке и можно будет избавиться от всего этого, покончить каким-то образом с этой морокой, а там – будь что будет.
Рассказывать надо не торопясь, и тогда то, что я пишу, станет зримым, будет видно все, что происходит. А если меня заменят, если я уже не буду знать, что говорить дальше, если вдруг исчезнут эти облака и начнется что-то еще, (ведь нельзя же, чтобы перед глазами все время одни облака и лишь иногда – голубь) если вдруг… Ну хорошо, а что же написать после этих «если», как закончить должным образом начатую фразу? Нет, если сыпать без конца вопросами, то вообще ничего не расскажешь. Лучше рассказывать, как получится, может тогда откроется правда, хотя бы кому-то, кто это прочтет.
Роберто Мишель, франко-чилийского происхождения, профессиональный переводчик и в свободные часы – фотограф-любитель, вышел из дома номер одиннадцать, что на улице Мосье-ле-Пренс в воскресенье, седьмого ноября, нынешнего года (а сейчас ползут два небольших с серебристыми краями). Три недели подряд он переводил на французский трактат об апелляциях и отводах, принадлежащий перу Хосе Норберто Альенде, профессора Университета Сантьяго. В Париже редко бывает ветер, но чтоб такой, как сейчас, не упомнить – вихрится столбом на перекрестках, вот-вот переломает старенькие деревянные жалюзи, за которыми стареющие дамы озадаченно толкуют о том, как резко изменился климат. А в тот день было много солнца, оно улыбалось всем кошкам, быстро оседлало ветер, и я мог себе позволить немного прогуляться по набережной Сены, сделать несколько снимков Консьержери и Сент-Шапель. Было около десяти и я знал, что в осенние дни самое хорошее освещение для съемки – одиннадцать утра. Чтобы убить время, побрел к острову Сен-Луи, потом двинулся по Ке Д'Анжу, взглядом задержался на отеле Лозен, прочел несколько строчек из Аполлинера, которые всегда вспоминаются, если прохожу мимо этого отеля