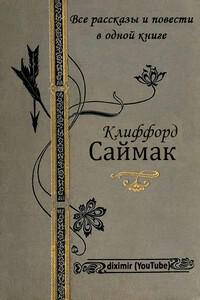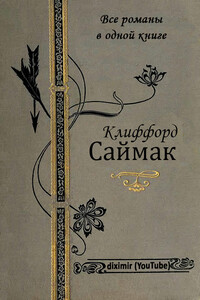Жить на вершине голой,
Писать простые сонеты
И брать у людей из дола
Хлеб, вино и котлеты.
И ещё — молоко. Вспоминая стихотворение неведомого гения, Терим непременно добавлял в список молоко. Оно ежедневно появлялось в большой серебряной чаше, густое и сладкое; сливок в нём отстаивалось на два пальца. Терим переливал молоко в глиняную корчагу, а чашу отправлял обратно. Обмен происходил ежедневно, и Терим уже не мог сказать, кому изначально принадлежала серебряная посудина.
Разумеется, молоком дело не ограничивалось. Раз в год Терим получал снизу дрова, уже напиленные и расколотые. А вот складывать их в поленницу приходилось самому. Объявлялась на голой вершине и рыба: скользкие угри, палтус и лосось, которого так славно коптить на ольховых дровишках.

Много ещё чего дольные обитатели преподносили Териму; отшельник не отказывал себе ни в чём. Пропитанье — радость тела и одежду — радость духа можно было бы брать и даром, никто не посмел бы возражать, но Терим за всё привык платить. И не только здоровьем и удачей в делах, но и безыскусными богатствами горных склонов, а порой и дальних стран. Окрестные вершины цвели разнотравьем, среди которого особенно много было жёлтой железницы, дикие пчёлы неустанно сновали вдоль склонов, накапливая текучий мёд. Терима они не трогали, даже когда он приходил забирать лишек сладости. Мёда выходило столько, что не переесть, и, получив снизу корзину живой рыбы, Терим порой отправлял суровым рыбакам кадушку горного мёда. На северах пчела не живёт, а сладкого хочется всем.
За дрова расплачивался солью. В окрестных ущельях соли не было, но не так трудно заглянуть на соляные озёра, нагрести в рогожный куль пуда два серой соли и отправить дровосекам. Своих варниц у них нет, а соль нужна и людям, и скотине, и дикому зверю. Так почему бы не порадовать добрых людей?
Но всего замечательней Терим расплачивался за парное молоко и свежее мясо — те самые котлеты, о которых говорилось в стихах. Владельцы лучших стад кочевали в сухой степи, где хорошие водопои можно пересчитать по пальцам. И лучший из источников был создан Теримом. Посреди голой равнины виднелся изъеденный останец — последний кусочек древних гор, сдавшихся перед упорством ветра. Там, на высоте двух человеческих ростов, находилась каменная чаша, полная холодной воды. Влага через край стекала во вторую чашу, а оттуда — на землю, где растекалась крошечным озерцом, а верней — лужей. На чашах красовались надписи, исполненные нечитаемой восточной вязью. Первая гласила: «Здесь пьёт бог и птицы небесные». Вторая утверждала: «Здесь пьют люди». Внизу надписи не было, но все и так знали: «Здесь пьют твари земные». Рассказывают, будто некий властелин подъехал к источнику на коне и хотел напиться из верхней чаши, но ледяная вода сожгла его нутро, прервав цепь великих побед. Мудрецы и поэты, всяк на свой лад, толковали предание, но только Терим знал, что случилось на самом деле. Если волшебник говорит, что пить из верхней чаши не надо, то этого делать не следует. А вода в чудесном источнике была самая обычная, из ледниковой реки, что протекала у подножия голой вершины, где издавна стоял дом Терима, или, как называли его окрестные жители, — сакля колдуна.
За иные приношения дольных людей Терим расплачивался небесно-голубыми осколками бирюзы и самородным серебром. Камень и металл были у Терима под рукой, а вернее — под ногой. Обычный старатель до горных богатств не докопался бы, а Терим умел вынимать потребное, обходясь без шурфов и шахт.
Конечно, как уже сказано, людям из дола можно было не платить, но приятно чувствовать себя честным. Опять же быть при деле — лучше, чем бездельничать.
Жаль, что времени для занятий поэзией совсем не оставалось. На столе, в единственной жилой комнате лежал лист бумаги, на котором красовалась первая строфа первого из задуманных сонетов:
Судьбе назло писать сонеты стану,
Поскольку сей размер, каким пою,
Давно забыт в моём родном краю,
А также в сопредельных странах…
На этом поэтическое вдохновение покинуло Терима и не возвращалось уже много лет. Но листок отшельник не выбрасывал и даже со стола не убирал, чтобы, случись приступ творчества, всегда был под рукой. Зимними вечерами, когда на смену молоку приходил глинтвейн, Терим ставил на листок кружку с горячим напитком. Красные круги от донышка переплетались на пожелтевшей бумаге, образуя причудливый узор, словно кто-то бессчётное число раз рисовал человеческое сердце. Отхлёбывая пряное вино, Терим порой думал с изрядной долей кокетства: «Вот помру, придут снизу люди, моё барахло разбирать, и, взглянув на эти строки, скажут, что я писал их кровью сердца. А я их и вовсе не писал, сами сложились».
Так протекала жизнь. Со своими Терим почти не общался, разве что объявлялись дела, касающиеся всех. Но таких не случалось давным-давно. Поэтому Терим очень удивился, когда посреди единственной комнаты, едва не загородив проход, объявился переговорный столб. Больше всего он напоминал аккуратно выпиленный кусок молнии: светящийся, переполненный разрядами. Густой грозовой запах расползался по всему дому, обещая ожог лёгких и резь в глазах. Обещания эти обычно не сбывались, столб возникал редко и ненадолго и не мог причинить существенного вреда здоровью. Колдуны быстренько решали насущные вопросы и забывали друг о друге до следующего раза. Поставить переговорный столб (или столп, тут Терим затруднялся в подборе слова) было не так просто. Для этого должны были собраться трое магов, что уже само по себе удивительно, и эти трое обязаны решить, что у них есть важное сообщение для остальных. Зато, пока столб стоит, любой чародей может свободно беседовать с любым, где и когда бы тот ни жил.