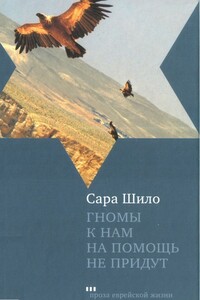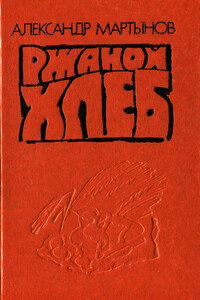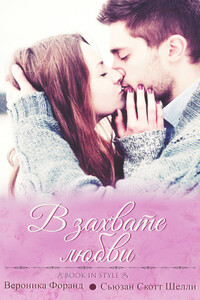Все началось двадцатого июля, где–то в одиннадцать часов утра. Именно в это время раздался телефонный звонок, и мой мюнхенский издатель, господин Клаус В., с печалью в голосе поведал, что — как стало ему известно из абсолютно достоверных источников — премия Хугера, на которую мой последний роман «Градус желания» был выдвинут именно издательством господина Клауса В., досталась не мне, а некоему мулату с островов Теркс и Кайкос.
После этого замечательного сообщения господин Клаус В. положенным образом поутешал меня несколько дорого стоящих ему минут и положил трубку, пообещав напоследок, что сие печальное событие никоим образом не отыграется на наших с ним (точнее, на моих и его фирмы) взаимоотношениях. «Что ж, не отыграется — так не отыграется», — подумал я, тупо смотря на смолкший телефонный аппарат, при этом отчего–то вспоминая первую фразу так и не получившего премию Хугера романа. Она гласила, что «В июле, когда наступает жара, время останавливается и повышается градус желания». Мне она нравилась, как, собственно, нравился и сам роман, как нравилось его первое издание, предпринятое господином Клаусом В. (точнее же будет герром Клаусом), правда, не на русском (что совсем не странно, ведь в бедной России найти сейчас издателя для приличной книги нелегко), а на немецком, которого я не знаю, но это никакой роли не играет.
Собственно, мой расчет на премию Хугера и сводился не столько к пятидесяти тысячам марок (интересно, сколько это будет в фунтах и долларах, надо бы посмотреть по сегодняшнему курсу), сколько к тому, что — в случае, если Хугер все же достанется мне, — найдется и в России издатель на мой несчастный «Градус». Увы, сейчас с уверенностью можно сказать, что не найдется, а это значит многое, хотя бы то, что через пару месяцев мне не на что будет покупать сигареты и делать Сюзанне подарки, впрочем, о Сюзанне речь еще впереди.
Но тут надо сразу же приоткрыть в колоде одну малозначащую карту: то, о чем шла речь в первых абзацах повествования, случилось не сегодня, да и не вчера. Больше года прошло с того дня, когда в одиннадцать часов утра мне позвонил милейший Клаус, и день тот стал основой для всего, что случилось, хотя собственно категория случая не относится к тому интеллектуальному ряду загадок, забав и шарад, над которыми я привык ломать голову, ведь случай — это не больше чем чья–то шутка, хотя временами шутка эта все ставит с ног на голову, и тогда не знаешь, куда бежать. Но я отвлекся, карту пора вновь убрать в колоду, хотя есть ли смысл в том, чтобы я снова — будто и не было моего признания, будто время на самом деле дискретно — вновь вернулся в тот самый день?
Все еще одиннадцать часов утра. Так возвращаться или не возвращаться? Может, просто признать, что день тот был переломным в моей жизни? Подумаем вслух. Любой рассказ, вокруг которого ты наворачиваешь целую кучу недоговоренностей и оговорок, подразумевает, что за ним стоит некая тайна. Но тайна — всегда молчание, а молчать я не могу, молчание есть не что иное, как невозможность пуститься в новую эскападу, попытка уложить себя заживо в гроб, лишить услады еще большей, чем любое плотское наслаждение. Так, наверное, чувствует себя профессиональный ловец бабочек или охотник за акулами, которого тяжелая болезнь приковывает к койке и он больше не может физически ощутить это томление в ногах и сердце, почувствовать, как в преддверии опасности в крови начинает вырабатываться адреналин, сердце учащенно стучит и сладкие спазмы охватывают тело. Для меня такая койка — молчание, а значит, сачок и морилка, снасти для ловли акул, пара ружей и здоровущий охотничий нож, альпеншток, ботинки с шипами, страховочная веревка и многое другое уже приготовлено и свалено кучей в углу комнаты, остается сложить все в рюкзак (или вещевой мешок, кому что больше нравится) да невзначай упомянуть, что молчание молчанию рознь — бывает так, что нарушить его равнозначно самоубийству, ибо бывают тайны, принадлежащие не только тебе. Есть силы более могущественные, силы, с которыми я в буквальном смысле связан кровавой клятвой — ведь стоит повнимательнее присмотреться к запястью моей левой руки, еще и сейчас, столько месяцев спустя, можно различить оставшийся на нем белый шрам (разрез был сделан обоюдоострым кинжалом с тяжелой, украшенной переливающимися драгоценными камнями рукоятью; глубоким получился разрез, и тоненькой непрерывной струйкой бежала из него алая кровь — моя кровь, надо отметить). Кровь сцедили в небольшой хрустальный бокальчик, в который — в свою очередь — брызнула еще одна струйка крови, только не алой, а темной, почти черной, да еще с зеленоватым отливом. Густая, как патока, струйка, перемешавшаяся с моей. И я взял бокальчик и приложил к губам, я хлебнул из него, но это уже не метафора, это случилось на самом деле, и…
Но это все о молчании. Сейчас же меня начинает интересовать иное — стоит ли раскрывать собственное инкогнито, то есть внятно и просто объяснить, от чьего лица ведется это безумное повествование, хотя сохранить инкогнито намного труднее, чем кажется, ведь мною уже приоткрыта еще одна карта: «Градус желания». Стоит любому затребовать немецкое издание этой книги, и предполагаемое инкогнито развалится само собой, и я из просто «я» стану наделенной именем и фамилией личностью, но не это смущает меня, а то, как лучше вести повествование. В том же «Градусе», к примеру, был герой, мною вымышленный, но сейчас–то я рассказываю о том, что произошло конкретно со мной, это мое левое запястье украшено небольшим белым шрамом, это я пил из хрустального бокальчика свою кровь — алую, что отметим особо! — смешанную с темной, почти черной, со странным зеленоватым отливом. Густой, как патока, была эта чужая кровь, а вот о вкусе ее я еще ничего не сказал: странный у нее, надо заметить, был вкус. Не солоноватый и не сладковатый, не солоновато–сладковатый, если уж на то пошло, а с явным привкусом сероводорода, то есть чего–то гнилостного, затхлого, болотного. Но пил я не морщась, пил с видимым удовольствием, и пил–то именно я, не какой–то выдуманный И. Мя. Рек., так что не станем раскрывать инкогнито, а тот, кому уж совсем невтерпеж, пусть найдет мюнхенское издание «Градуса желания», узнает фамилию автора, пойдет в библиотеку и посмотрит библиографию, из которой узнает, что тот же автор написал еще несколько книг, в том числе «У бездомных нет дома» и «Император и его мандарин», хотя романы эти выпущены такими незначительными тиражами, что отыскать их сейчас нет никакой возможности, если, конечно, не попросить экземплярчик у меня.