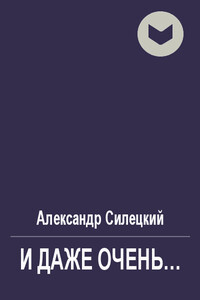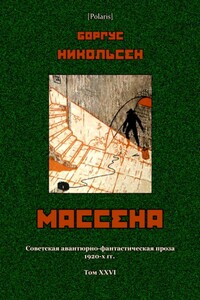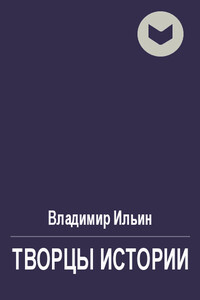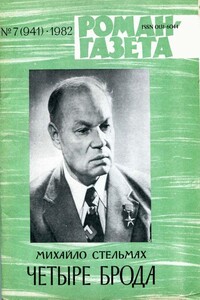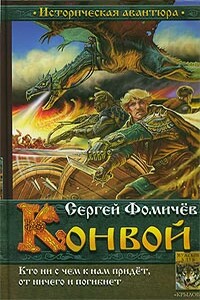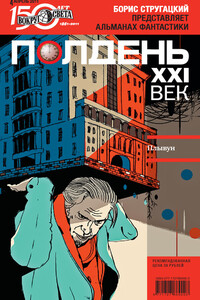Они увязались за мной в безлюдной и тёмной серёдке парка. Их двое: Бомж — крепкий мужик неопределённого возраста в драном плаще, с пакетом дребезжащих бутылок, и Проныра — вертлявый паренёк в кепке, похожий на уголовную шестёрку, какими изображает их отечественная кинематография. Оба движутся в пятидесяти шагах, повторяя все мои повороты последние десять минут. Вопросов почти не осталось — они поджидали меня и никого другого.
Черту под сомнениями подводит выстрел. Пуля шуршит над головой и, выбросив щепки, исчезает в сосне. Итак, мои преследователи не расположены к разговору. Накатывает запоздалый звук, тут же угасший в ближайших деревьях, но для меня он звучит отчётливо, словно стартовый револьвер. Они стреляют, а значит мне остаётся только бежать.
Бегу, стараясь оставить между собой и преследователями побольше деревьев и бугров. Ритмичное бряцанье бутылок за спиной обрывается, раздаётся звонкий хруст — Бомж отбросил ненужную ношу. Ага! Это вам не бабочек ловить. Лёгкая атлетика! Как у нас говорилось — царица полей. Учился-то я в школе со спортивным уклоном. И хотя любовь к пиву со временем сказалась солидным брюшком, но и курить я не начал, а потому лёгкие качают кислород без труда.
Бегу вполсилы, лениво маневрирую. Палая хвоя приятно пружинит под кроссовками. Преследователи больше не стреляют, а скоро и вовсе стрелять не смогут: во-первых, сбитая дыхалка не позволит прицелиться, а, во-вторых, вот-вот людно станет — парк невелик и шум города слышен всё ближе.
Выскакиваю на площадь перед ДК ГАЗа, бросаюсь к краснокирпичному павильону метро. Народ брызгает в стороны, словно мальки от окуня. Барабаню ногами по ступенькам, спотыкаюсь, задеваю плечом какую-то бабку…
— Извините, — кричу за спину…
Состав стоит, но это ничего не значит. Станция-то конечная, интервалы большие. Он так долго простоять может. Несусь по платформе к другому выходу. Оглядываюсь — мои преследователи равняются с последним вагоном.
— Осторожно двери закрываются, — бодро сообщает магнитофон. — Следующая станция «Кировская».
Название станции магнитофон объявляет особенно торжественно. Будто это не станция, а руины древнего города. Ныряю. Двери пфукают и нестройным громыханием сопровождают первый толчок поезда. Поехали. Стараясь дышать глубоко и ровно, я обдумываю ситуацию. На «Кировской» можно выскочить и поменять направление, но тут не подгадаешь с интервалами. Лучше всего проехать до «Комсомольской». Да, так вернее. Что я могу сказать? Они сильно удивятся, когда через станцию не обнаружат меня в этом поезде…
* * *
Ворота я нашёл совершенно случайно.
Было мне лет пятнадцать и я гостил у родственников в Волгограде. Каникулы подходили к концу, и я уже собирал вещи, когда моим родителям пришло в голову через родственников устроить меня на приём к зубному врачу. В те времена хороший врач считался таким же дефицитом как чешское пиво, венгерские кроссовки или подписка на «Иностранную Литературу» (старшее поколение могло бы добавить к этому перечню финскую сантехнику, польский парфюм и многое другое). К хорошим врачам попадали по великому блату, в обмен на продовольственные наборы или шоколадные конфеты фабрики «Россия». К моему сожалению у родственников такое знакомство нашлось…
Зубных врачей я и теперь побаиваюсь, а тогда не переносил на дух. Я до жути боялся бормашинки, меня тошнило от особенного, ни на что непохожего, мерзкого запаха, висящего в зубных кабинетах, бросало в дрожь от плевательниц, ковырятельниц, крючков, прочих орудий инквизиции, била лихорадка от лампочек над креслом, от самих кресел. Даже плакаты про кариес перед входом в кабинет с зубной щёткой в виде былинного богатыря и микробами изображёнными злобными лохматыми существами навевали щемящую тоску.
Хороший врач вовсе не означает врач добрый. Напротив, профессионал относится к пациенту как к бездушной кукле; все его успокоительные фразы дежурны, а ваш рот — полость, так они и говорят — полость, в которой нужно произвести санацию. Зачистить, по-современному.
Короче говоря, я единственный кто не обрадовался случившейся оказии. Последние дни каникул и без того омрачённые тем что они последние, превращались в сущий кошмар. Но восставать против родителей и родственников я в то время ещё не мог, пришлось покориться, уговаривая себя философским «всему приходит конец».
Я ездил в поликлинику окольным путём, нарочно давая крюк и делая ненужную пересадку, пытаясь оттянуть неизбежное. Мне было плохо и тоскливо. Я смотрел через окно на город, на покрытые пылью пирамидальные тополя, на нетерпеливые машины, на весёлых беззаботных людей. Может у них и были свои печали, но мне они казались совершенно ничтожными в сравнении с моими.
— Остановка «Школа», следующая «Поликлиника», — объявил сквозь треск стандартный женский голос.
Я невольно улыбнулся. Дело в том, что в родном Саранске троллейбус с таким же номером делает остановки с точно такими же названиями и в той же последовательности. Я на какое-то время забылся, вообразил, будто уже вернулся домой, и еду к однокласснику Петьке Дворкину, у которого давно собирался переписать Владивостокский концерт «Машины времени». А когда открыл глаза, то за окном не увидел привычных пирамидальных тополей — только начавшие уже желтеть берёзы и клёны. Это был Саранск — столица советской Мордовии. Наваждение? Нет, картина более чем реальна. Оглядевшись, я увидел совсем других людей, иную отделку салона, но что интересно к моему появлению все остались равнодушны, будто и не заметили вовсе.