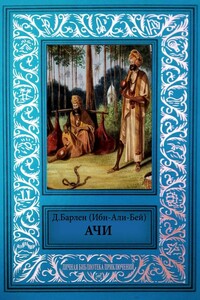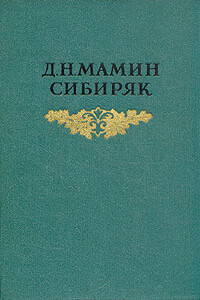Ее глаза становились в сумерках ярко-синими, а кожа светло-золотой.
Привыкнуть к ее переменам было совершенно невозможно. Даже взгляд ее то вспыхивал, восхищаясь или негодуя, если ее что-то интересовало, то гас до помертвелости, она уходила в себя так, словно жизнь уменьшалась в ней до исхода и, казалось, вот-вот совсем кончится, если бы не легкое дыхание.
– Я не желала бы жить в этом доме, лучше повеситься, – высокомерно заявляла она на улице. И дом, получивший столь нелестный отзыв, реально мрачнел, как черный гроб.
Волосы золотыми полукольцами выбивались из-под голубого вязаного шлема. Она поправляла их неумелым движением – не убирая ровным рядом, а подтыкая друг под друга. Но от резкого поворота головы они рассыпались вновь и, похоже, упрямо радовались своей свободе.
Она впивалась в его рукав обеими руками, белели костяшки пальцев, и с неподвижным ужасом смотрела ему прямо в глаза.
– Что я наделала?
Ее молчание, долгая, невыносимо долгая пауза были бесконечными. Лицо бледнело, глаза закрывались быстро набухающими веками.
– Вот обещала позвонить Галке, она заждалась, наверное, и надо же, – нравоучительно выговаривала, как провинившаяся девочка ни в чем не повинной кукле, она самой себе.
И добавляла уже совсем безмятежно-спокойно и нежно:
– Милый, я так люблю тебя...
День начинался всегда одинаково.
Просыпалась она трудно, морщила лицо с закрытыми глазами, отмахивалась тонкими руками от ночных видений, а когда вставала, то, шаркая полунадетыми шлепанцами, первым делом спешила к окну.
С высоты двенадцатого этажа, по-птичьи наклоняя голову, осматривала оценивающе мир за стеклом и чутко вслушивалась в трудноуловимую атмосферу нового дня.
Бледнело ощущение ночи, утро что-то рассказывало ей о себе, и она успокаивалась.
– Будет дождь, – уже удовлетворенно сообщала она своему отражению в зеркале.
Он называл это действие гимнастикой гримас.
Ежедневный утренний ритуал: из красивого, с тонким носом и чувственными губами лица легко мастерилась маска компрачикоса.
Человек, который смеется. Скалились белые ровные зубы, вылезали глаза из орбит, щеки проваливались в ямы под скулами. Некая актриса сказала ей, что мускулы лица должны быть тренированными.
Он смотрел на нее, делая вид, что спит, и ему ужасно хотелось, чтобы этот равнодушный розовый манекен снова стал смущенной девчонкой, которая, похоже, в первый раз в жизни трудно произносит набухшими губами:
– Я тебя... Какой же ты недогадливый!..
Она никогда не стояла прямо. Все время изгибалась, скрещивала ноги и часто ударялась. Он досадовал, что она так неосторожна, и страдал, мучительно страдал от ее боли.
В такие минуты она всегда звала маму. Его – никогда.
По утрам они часто ссорились.
Она бегала по комнате, как курица, хлопала дверцами гардероба, вскрикивала где-то на кухне, с грохотом что-то роняла, пока, наконец, не атаковала его, застигая врасплох глупым, ненужным, злым вопросом:
– Отвратительно! Какой же пошлый вкус у тебя! Ты что, не понимаешь, что такие рубашки носят только идиоты и дебилы в психушках?
– А я и есть идиот, с ненормальной связался, – пытаясь сдержаться, он все равно заводился.
– Дальтоник несчастный, вот ты кто. И не спорь со мной, никакой ты не идиот, а блаженный, жизнь, считай, почти прожил, а все впустую.
Обидно, потому что неправда.
Ей – двадцать, ему – тридцать два, и эта разница, быть может, и скажется, когда ему стукнет полтинник, а ей не будет сорока. А до пятидесяти еще годы жить да жить. Хорошо бы с ней.
Но когда он клал ей руку на плечо, пытаясь помириться, тут уже раздавалось со звоном:
– Отстань!
Хлопала дверь, звякали стеклянные трубочки светильника в передней, и казалось, что действительно жизнь живется впустую.
Вечером он приезжал домой с работы, торопясь, пролетал единым духом подземный переход, останавливался, запыхавшись, у двери, успокаивал дыхание и медленно нажимал кнопку звонка два раза.
Она бросалась ему на шею, прижимала его к двери, как распятие, и прятала голову у него на груди.
– Сумасшедший дом, идиотский лифт, – глухо жаловалась она, – хлопает и хлопает, а я слушаю и жду, жду, жду, когда же тебе заблагорассудится явиться.
Она была студенткой строительного вуза, но не фундаменты и крыши составляли ее призвание. Высокие материи волновали ее ум и душу, она писала изысканные стихи:
...кружевом шалей, пышных мехов,
бантов, воланов, воротников,
пеною юбок, блеском страстей,
вихрем желаний и новостей..,
читала их, густо покраснев, еле слышным голосом и с таким волнением, что становилось страшно за ее сердце.
Появилась она в лаборатории, где он работал научным сотрудником, в компании еще двух таких же практиканток, кстати под его день рождения.
В конце рабочего дня сдвинули столы, смахнув с них канцелярскую атрибутику, расставили тарелки с бутербродами, разлили вино по чашкам, стаканам, мензуркам. И завелось после первых тостов веселье, засияли улыбки, рассыпался, как весенний сугроб, смех.
Она стояла поодаль, ссутулившись, сжавшись, о чем-то отрешенно размышляя, потусторонняя, нездешняя, и загорелась, как восход, только когда он запел под гитару. Тогда в каждой компании существовал свой бард, менестрель ли, вагант ли, исполнитель авторской песни, – каких только названий не тщились присвоить своим домашним поэтам и певцам, да ни одно из них так и не прижилось по сути.