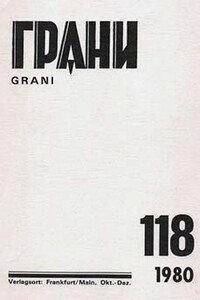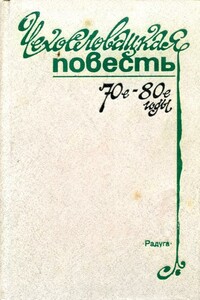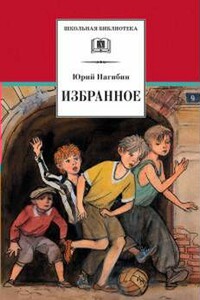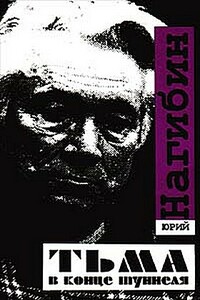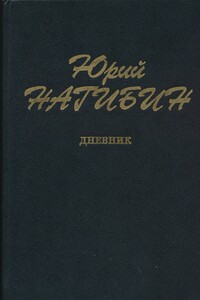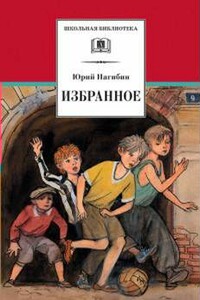Рассказ
Во время корреспондентской поездки по Карельскому фронту меня сильно контузило. Когда я настолько подлечился, что уже не расплескивал чай в стакане и даже мог прикурить от чужой папиросы, редактор подарил мне для окончательного выздоровления тыловую командировку в Донбасс.
У меня еще никогда не было такой печальной командировки: казалось, я разъезжал по гигантскому кладбищу людей и механизмов. В шурфах и заваленных шахтах истлевали трупы комсомольцев, героев донецкого подполья, шахтеров, не пожелавших работать на гитлеровцев, и просто жителей Донбасса, виновных в том, что они родились на советской земле. В земной глуби покоились мертвые шахты, а на поверхности громоздились железные останки паровозов, машин, подъемных механизмов, каменные скелеты заводов, домов, целых городских кварталов. Остроконечные терриконы, мертвые вдвойне, походили на могильные курганы, вонзившие в зеркально-зеленое небо ранней весны острые конусы своих вершин.
Мне понадобилось немало времени, чтобы убедиться, как много сильной жизни таилось за этой кладбищенской мнимостью. Груша Енакиевского бессемера, выдавшая на моих глазах в грандиозном искромете первую сталь, завершила мое прозрение. Все же печаль выстояла и перед этим победным фейерверком.
Газета дала мне несколько поручений, но лишь одно редактор приказал считать обязательным: «Воспеть поэзию ручного труда на шахтах». В ту пору в Донбассе не было никакой техники, и шахтеры вернулись к давно забытому обушку. В этом была трезвая необходимость: на шахтах не осталось не только врубовых машин, но даже отбойных молотков; ни транспортеров, ни электровозов, ни даже конной тяги. Были: обушки, лопаты, носилки, тачки, — и с помощью этой примитивной техники надо было дать стране, напрягавшей все силы к последнему, победному году войны, возможно больше угля. Но необходимость не была почему-то в почете, и редактор ждал от меня красивую сказку на тему: врубовая — дура, обушок — молодец. Мне предстояло показать, что работа обушком — услада духу и телу шахтера. Но мало того: тему надо было решить на живом примере выдающегося передовика ручной работы.
Поначалу сказка упорно не слагалась. Я мотался по шахтоуправлениям, спускался под землю, иной раз в клетях лифта, чаще в бадейках; иной раз — с помощью электричества, чаще — ручного воротка; разговаривал с навалоотбойщиками, крепильщиками, отпальщиками, вагонетчицами, людьми разного возраста, стажа и квалификации, восхищался их мужеством, гордой терпеливостью, но вместе с тем чувствовал, что они не помогут мне пропеть песнь обушку.
План они выполняли на триста — четыреста процентов, а по тем залихватским временам это выглядело мизерно. Я не был очень уж опытным журналистом и все же знал: если дела рядовых тружеников уступают Геракловым подвигам, то они не представляют интереса для газеты. Новаторство начиналось с приближением к тысяче процентов, остальное принадлежало серым будням…
А вскоре мне поистине сказочно, неправдоподобно повезло. Я вдруг наткнулся на человека, которому обушок дал все: трудовую славу, высокий орден, лучшую девушку в жены. Ко всему, слава этого человека едва вышла за пределы области, еще не стала даже достоянием Донбасса. Короче, я прибыл в самое время. Неделя-другая, и путь к этому человеку будет заслежен, затоптан, разбит лавиной журналистских стад. Вот как это произошло.
Решив добраться попутной машиной до Краснодона, я так намерзся на росстани, что вскочил в первый попавшийся грузовик, даже не спросив, куда он направляется. После двухчасовой тряски в кузове, населенном лишь пустой бочкой из-под горючего — эта бочка при каждом толчке яростно устремлялась на меня, — мы прибыли в шахтерский поселок Воронино и стали с краю неширокой рыночной площади. Был один из тех скверных мартовских дней, которые особенно мучительны в Донбассе. Такие дни являются поначалу в обманчивой личине весны: ярко-голубые, солнечные. Но солнце странно не греет, оно не способно даже выгнать капель из сосулек, а голубизна вскоре задергивается тускло-белесой пеленой, из которой без устали сыплется сухой, крупитчатый снег. Ветер подхватывает снег, скручивает в тугие, хлесткие спирали, и начинается метель, более похожая на песчаный смерч. В Донбассе это сходство особенно велико: ветер подбирает угольную пыль, темно-серую массу и швыряет ею в лицо, в глаза, в рот, больно, душно, слепяще, секуще.
Я вывалился из грузовика окоченевший, почти слепой, с мучительно зудящими щеками и мимо огромного транспаранта, призывающего следовать примеру какого-то Придорожного, ринулся в ближайший магазин погреться. Это был странный магазин. Справа пестрели ситцы, ядовито пучились синие с красным резиновые детские мячи, множество ходиков отбивало время полукружными пробежками золотых маятников, а слева падали на весы краюхи серого, мокро-темного возле отделившейся корки хлеба и высились полки, украшенные пустыми коробками из-под конфет, тортов и кексов, пустыми банками из-под кофе и какао, пустыми бутылками массандровских и грузинских вин. Все же у пустого прилавка толпилось множество людей в шахтерских робах, ватниках, полушубках, драповых пальто. И, как я вскоре понял, они умудрялись черпать из этой пустоты нечто живительное, согревающее, помогающее жить дальше.