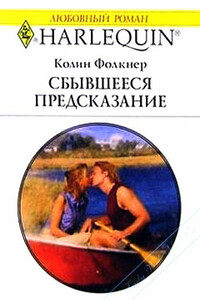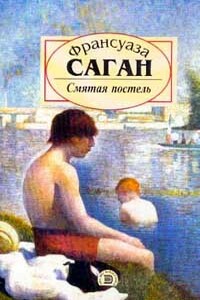Жером Бертье вел машину слишком быстро, и его жене, красавице Монике, потребовалась вся ее беззаботность, чтобы не обращать внимания на это лихачество. Ведь они уезжали охотиться на серну в выходные, что было для него настоящим праздником, поскольку он любил охоту, и свою жену, и вылазки на природу, и даже друзей, за которыми им предстояло заехать: Станисласа Брема с его очередной подружкой (после развода Станислас менял их практически каждые две недели).
– Надеюсь, они будут готовы вовремя, – сказал Жером. – Как думаешь, что за девицу он нам подсунет в этот раз?
– Откуда мне, по-твоему, знать? – устало улыбнулась Моника. – Надеюсь, будет хотя бы спортивной. Ведь охота трудная, верно?
– Очень трудная, – кивнул он. – Я все думаю, что на него нашло, на Станисласа. Корчить из себя бабника, в его-то возрасте… В общем, в нашем возрасте. Если еще не готов, упустим самолет…
– Ты никогда ничего не упускаешь, – засмеялась она.
Жером Бертье искоса бросил взгляд на жену, в который раз спросив себя, что она хотела этим сказать. Он был человек мужественный, верный и спокойный. Знал, что достаточно привлекателен, но на протяжении тринадцати лет, что они были женаты, обеспечивал своей жене – единственной женщине, которую когда-либо любил, – самую приятную и надежную жизнь. Хотя порой задавался вопросом, что таится за этой безмятежностью, за темными спокойными глазами его красивой супруги.
– Что ты хочешь этим сказать? – спросил он.
– Я хочу сказать, что ты ничего не упускаешь: ни свои дела, ни свою жизнь, ни свои самолеты. Думаю даже, что ты и эту серну не упустишь.
– Очень надеюсь, – подхватил он. – Я на охоту не для того езжу, чтобы в воздух стрелять, а это животное, уж ты мне поверь, самая трудная добыча.
Они подъехали к дому на бульваре Распай, и Жером просигналил три раза, пока в раскрывшемся окне не появился Станислас и не помахал рукой в знак приветствия. Жером высунулся наружу и крикнул:
– Спускайся, старина. Самолет упустим.
Окно закрылось, и через две минуты Станислас Брем вышел из подъезда со своей подружкой.
Он был настолько же долговяз, гибок и беспокоен, насколько Жером надежен, крепок и решителен. Его молодая спутница оказалась очаровательной, чувственной с виду блондинкой, из тех, что называют «женщина на уик-энд». Они влезли в машину через заднюю дверцу, и Станислас представил свою подружку:
– Моника, дорогая, познакомься: это Бетти. Бетти, это Моника и ее муж, знаменитый архитектор Бертье. С этой минуты ты под его началом, это он ведет корабль.
Все рассеянно засмеялись, и Моника любезно пожала руку этой Бетти. Машина направилась к аэропорту Руасси. Станислас наклонился вперед и спросил довольно пронзительным голосом:
– Вы-то оба довольны, что едете?
Не дожидаясь ответа, повернулся к своей спутнице и улыбнулся ей. Он был необычайно обаятелен, этакий весельчак – немного дегенерат, немного плейбой, немного хищник. И Бетти как зачарованная улыбнулась ему в ответ.
– Представь себе, – продолжил он громко, – я знаю этого человека двадцать лет. Вместе в школе учились. Жером всегда ходил в первых учениках и кулаком мог врезать лучше всех, когда дрались на переменке, и часто меня защищал, потому что я уже тогда был невыносим. – И, кивнув на Монику, добавил: – А ее знаю тринадцать лет. Это счастливая пара, дорогуша, смотри хорошенько.
Ни Жером, ни Моника, казалось, не слушали его. Лишь легкая, почти сообщническая улыбка скользнула по их губам.
– Это они меня утешили после моего развода, – продолжал Станислас, – потому что я тогда был в великой печали.
Машина теперь ехала очень быстро по северной автостраде, и юной Бетти пришлось практически прокричать свой вопрос:
– Почему в печали? Жена тебя разлюбила?
– Нет! – крикнул Станислас в ответ. – Это я ее разлюбил, и, поверь, для джентльмена это ужасно.
Он расхохотался и откинулся на спинку сиденья.
Потом был Руасси, ад Руасси, и они восхищались расторопностью Жерома, который предъявлял билеты, регистрировал багаж, занимался всем. Трое остальных лишь смотрели на него: обе женщины были естественно привычны к тому, что ими занимается мужчина, а Станислас словно считал делом чести ни во что не вмешиваться. Потом были переходы, эти движущиеся дорожки, где они ехали гуськом под целлофаном, по двое, неподвижные и будто замороженные, этакие полуфабрикаты благополучных пар нашего времени. Потом был самолет, салон первого класса, где они опять сидели по двое, друг за другом, и Моника смотрела в иллюминатор на проплывающие облака, даже не заглянув в журнал, который ей дали. Жером зачем-то поднялся с места, и вдруг рядом с ней возникло лицо Станисласа, который, видимо, на что-то указывал ей рукой в иллюминатор, но при этом говорил совсем другое:
– Я тебя хочу, ты же знаешь, выкрутись как угодно, но я хочу тебя в эти выходные.
Она похлопала ресницами, однако не ответила.
– Скажи мне, что тоже хочешь, – продолжил он с улыбкой.
Она обернулась к нему, посмотрела серьезно, но, прежде чем успела открыть рот, по громкой связи объявили: «Мы начинаем снижаться над Мюнхеном. Пожалуйста, займите ваши места, пристегните ремни и прекратите курить». Они посмотрели друг на друга мгновение, то ли как враги, то ли как любовники, он улыбнулся, в этот раз по-настоящему, и откинулся назад, на свое место. Жером вернулся и сел подле нее.