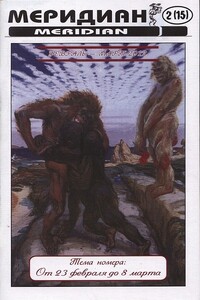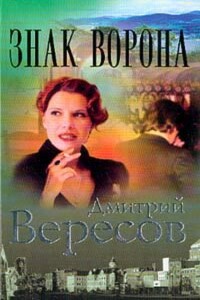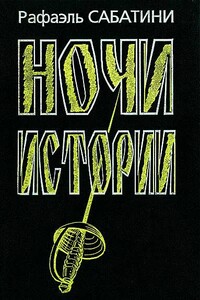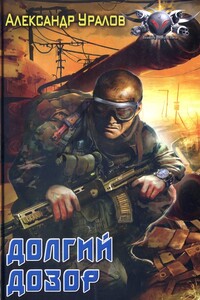— Быстро встал, сопля гнилая! — сказал Сержант. — Много я видел на своём веку дристунов, но ты, Никон, самый дрисливый из них.
Николай шумно вздохнул. Грудная клетка ходила ходуном, поэтому вдох и выдох получились прерывистыми, со всхлипыванием. Он с ненавистью поднялся и вытянул руки по швам. Сержант стоял, как памятник самому себе — ладный, подтянутый… слуга царю, отец солдатам, сволочь. Безупречно бритое лицо его ухмылялось, ноги расставлены, подмышками нет никаких расплывающихся пятен. Даже кирзачи его — последний писк моды этой долбаной армейской верхушки — сияли чуть ли не солнечными зайчиками нарочито смятых голенищ. Благословенный рюкзак горой топорщился за его спиной. Николай… впрочем, он давно уже стал «Никоном» для этого ухмыляющегося садиста… Николай сглотнул вязкий комок и хрипло сказал:
— Господин сержант, разрешите обратиться?
— Обращайся, дристун Никон, — сделав паузу, ответил Сержант.
— Курсант Коряга умер, сэр.
— Курсант Коряга выбыл с дистанции, — ровно ответил проклятый истукан. — Судьба его не должна волновать оставшихся претендентов. — Сержант обернулся к Ангару, посмотрел в небо, повернулся и чётко сказал. — Согласно протоколу, вызвана аварийная бригада. — Он ухмыльнулся Никону и рявкнул. — Ты остаёшься, курсант! Не криви морду — прыщи вскочат! Согласно показаниям твоей личной телеметрии, тебе ещё служить и служить, сынок. Отдышался? В бою не отдышишься! Что такое бой, гусёнок?
— Полные штаны говна при безупречном выполнении боевого приказа! — устало выкрикнул Никон.
— Верно, сынок. По ноздри в говне, по макушку в крови и кишках. Но — приказ выполнен! И таким, как ты, жирный бурдюк, этого не понять, как не понял бывший курсант Коряга, а ныне кусок говна, отчисленный с курсов, как непригодный к дальнейшему боевому обучению!
Сержант орал ещё пару минут, выщёлкивая слова твёрдо и отчётливо. Такая уж у него функция — орать. Никон молчал, ел глазами начальство и думал о том, как он ненавидит всё это. И труп несчастного Коряги, переставший интересовать Сержанта после выполнения идиотского доклада-протокола, и раскалённый песок песчаного пляжа, и отвратительный пальмовый шелест, и горячий ветер, и тошноту, снова подступающую к горлу… и вообще весь этот трижды проклятый остров в семижды проклятом океане. А пуще всего — это говённое, ублюдочное время муссонов, несущих к ним привет с материка.
— Замечтался, паренёк! — ехидно сказал Сержант. — Или яйца напекло на солнышке, бабу на гражданке вспомнил?
— Никак нет, — прохрипел Никон, с трудом удержавшись, чтобы не добавить: «Пить хочется!»
— Это хорошо, сынок, это хорошо. Слушай боевой приказ — ползком, направление северо-восток, ориентир — Ангар… жив-во!
Ползти по жаре через собственную блевотину неприятно. А уж когда Сержант приказал сделать крюк, чтобы Никон заодно проутюжил брюхом и место, где Никона недавно прохватил понос — это ужасно. Перед глазами прыгали раскалённые добела молнии. Смутные фигуры тонули в кровавом тумане. Никон с трудом подавил позыв к рвоте. Сдох Коряга. Сдох, как собака. Оно конечно, ещё неделю назад ему бы так просто это не удалось. Никон представил себе, как стремительным прочерком в безоблачном небе громыхает сверхзвуковой и сверхсовременный флаер группы поддержки… впрочем, они бы прилетели намного раньше. Как минимум, за пару дней до смерти Коряги. А вот — не повезло. Всем — не повезло. Три трупа курсантов разбросаны по острову, словно сам дьявол вонюче испражнился грешниками на белый песок.
Мы пытаемся лезть на отвесные стены. Мы ползаем по неприступным теснинам пещер, время от времени унавоживая своими трупами вечную темноту. Мы взлетаем в небеса, прыгаем с отвесных скал, раскрывая жалкие крылышки спортивных костюмчиков. Наиболее маргинальные из нас рыщут по ночам по вонючим эмигрантским окраинам, вооружившись кастетом и уповая лишь на собственную сноровку. Мы, мать нашу всеобщую, травим дохлятин, как зайцев, как долбанных отщепенцев цивилизации… мы — полубоги и полузвери.
Потом Никон блевал. Натужно блевал, с кровью. Сержант, присев рядом на корточки, говорил:
— Вот за что я не люблю таких, как ты, Никон, так это за вашу фальшивую образованность. На гражданке тебе стоит лишь пальцем своим жирным шевельнуть, чтобы к тебе слетелись и бабы, и зелень, и кола, и мясо, и тень, и прохлада. Слышишь, жирдяй? Ты недостоин своего образа жизни! Ты уже три недели потеешь здесь, дряблая медуза. За это время многие становятся мужчинами… но только не такой стручок, как ты! А если завтра война? Если враг нападёт? Если тёмные силы нагрянут? Кто будет тогда Родину защищать? Я что ли?! Да мне это нахрен не надо!
Замшелый армейский юмор. Он как запах изо рта, — тот выдаёт бомжа, а этот — военного.
Через два дня труп курсанта Коряги нестерпимо и тяжко вонял, облепленный мухами. Но Господь смилостивился над курсантом Никоном, — хотя дурак Никон на гражданке не верил в Бога! — господин Сержант не стал требовать от обучаемого чего-то совсем уж страшного. Он даже изменил маршруты ежедневных пробежек, проползок и перекатываний так, чтобы они проходили метрах в десяти от раздувшегося, шевелящегося личинками, трупа. Впрочем, и в первые три раза он сделал то же самое.