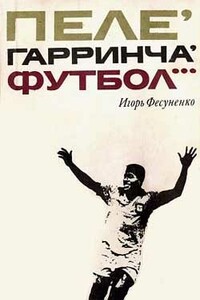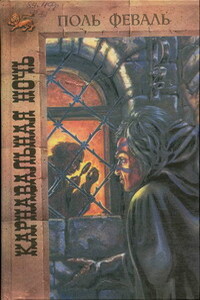Сегодня я счастлив, впервые за много лет, и счастье мое упруго, живо и осязаемо, как колеблющееся пламя свечи. Сердце стучит в висках, пот расплывается по бровям и стекает в глаза, хотя день совсем не жаркий. К тому же я еще не совсем оправился от глупого и беспричинного страха. Он преследовал меня по пятам, пока я шел домой, прижимая к груди драгоценный сверток — а вдруг сейчас какая-нибудь неизвестная сила выхватит его из моих рук? Утром по радио я слышал, что город находится в области антициклона. Я ничего не смыслю в погоде, но всем известно, что антициклон — это нечто вроде огромного водоворота, и мне было до колик страшно, что я провалюсь в эту захлестывающую воронку, так и не успев добраться до дома. Но этот страх только обострил мои чувства, заставляя полнее ощущать даже мельчайшие оттенки счастья.
Несмотря на то, что все мое тело кричало — Вперед, вперед! — я медленно поднялся по лестнице — мне не хотелось доверять свою радость вульгарному лязгающему лифту — и вот я уже дома. Долой пальто, одежда для прослушивания лежит на своем привычном месте. На цыпочках крадусь к двери, обитой звукоизоляцией, распахиваю ее — и передо мной предстает мой божок — несимметричное сочетание слегка благоухающих пластмассой параллелепипедов, способных излучать из себя самую божественную музыку в мире.
— Здравствуй, друг! — сказал я. Щелчок выключателя — и радиолампы усилителя ожили, словно глаза просыпающегося человека. — Наконец-то, после стольких лет ожидания, мы добились своей цели. Я смогу завершить тебя. Взгляни! — и я бережно развернул пакет, подняв перед собой драгоценную ношу — связку серебряных проводов.
Я гордо окинул взглядом творение рук своих, пока еще молчаливое, но оттого еще более прекрасное, и вновь ощутил жалость к тысячам людей, считающих себя ценителями музыки и в то же время вульгарно покупающих готовые музыкальные комплексы. Человек должен создавать для себя музыку сам, по своему образу и подобию. Только тогда это будет именно его музыка, оживающая и дающая жизнь. Он должен медленно подбирать ее составные части, в течение лет наблюдая, как она постепенно материализуется — сначала молчаливое скопище частей, а затем уже почти живое существо, обладающее своим собственным неповторимым голосом. Аскетическое одухотворенное тело, в котором есть все необходимое и нет ничего лишнего — поэтому меня всегда раздражали ненужные мелочи вроде волнистых поверхностей усилков от Джеффа Роуланда. Ты вкладываешь в это совершенное тело душу — музыкальный диск — и оно оживает. Ты ошибаешься, в сотый раз меняешь детали, производя тончайшие операции, и с каждым разом музыка становится глубже и полноводней, как река, давно уже покинувшая истоки. Долгих четырнадцать лет я создавал свою музыку и все это время знал, какая деталь будет самой последней — вены и артерии, по которым потечет кровь звука, настоящие серебряные провода. Никаких компромиссов, никакой меди — пусть даже сверхчистой или бескислородной, только драгоценное серебро, придающее звучание старинным колоколам.
Несмотря на нечеловеческое желание поскорей приняться за работу по замене проводов, я медлил, стараясь досыта проникнуться острым предвкушением. Сейчас, когда я пишу эти строки, руки трясутся от волнения, слова мешаются в голове и даже слюна перестала смачивать рот, но я заставил себя терпеть эту муку и не жалею об этом. Теперь — пора! Осталось совсем немного — короткое прощание с прежним звучанием, чтобы наиболее четко ощутить изменение музыки — пусть сотни теоретиков утверждают, что разницу заметить невозможно, я знаю, я уверен, что это не так! Ничего современного, изготовленного по самым свежим технологиям. Музыка прощания должна быть старой, насыщенной прекрасным духом того времени, когда по всей огромной Америке колесили диксиленды, знаменующие собой зарю нового искусства, а гении, еще совсем неизвестные миру, лупили друг друга в оркестровых битвах за равнодушного слушателя, ничего не смыслящего в настоящем божественном звуке.
По комнате задорно бродил призрак контрабаса, его упругие звучные шаги были настолько осязаемы, что не составляло труда почувствовать вплоть до миллиметра ту точку, куда опускалась невидимая стопа. А под самим потолком, чуть выше тихого клекота ударных, веселой птицей стремительно порхал изменчивый кларнет. Он был чист и бесконечно свободен, вырвавшись за пределы власти листков линованной бумаги и коварного сольфеджио, словно ноты из лопнувшей сетки тактов на рисунках Шнебеля. Иногда мне кажется, что именно о такой свободе когда-то мечтал великий Людвиг — этот страстный неукротимый титан, томящийся и кричащий от боли за чугунными решетками нотной записи.
Я сидел в неудобной позе, подвернув руку, которая уже начала неметь, но боялся пошевелиться, чтобы не спугнуть эту хрупкую и боязливую обитательницу воздуха. Однако все время меня не покидало сперва смутное, а затем все более осязаемое ощущение, что сегодня произошла некая перемена в звуке, причем далеко не в лучшую сторону. Нет, это не было обычной эволюцией хорошей музыки, которая каждый раз, когда ты ее слышишь, может звучать по-новому, скрадывая одни акценты и неуловимо расставляя другие. Даже послевкусие, которое музыка, словно хорошее вино, должна оставлять в сознании, никогда не повторяется. Но сейчас источник звука явно подводил меня — музыка звучала глуше чем обычно, из нее бесследно исчезали те едва уловимые оттенки, которые чуть слышно вибрируют на пределе слуха, доставляя истинное наслаждение.