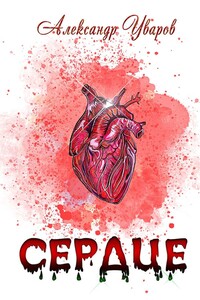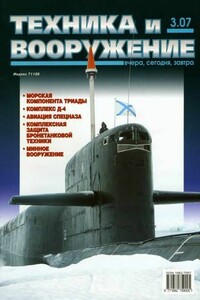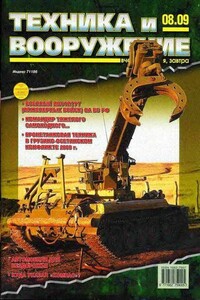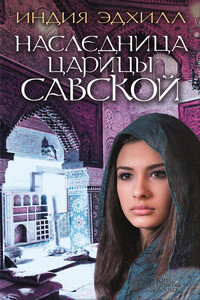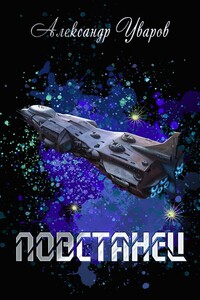Жарким августовским вечером, когда разогретое жёлтое марево потекло ленивой рекой по широким асфальтовым руслам, подгребая душную пыльную взвесь; когда воздух стал плотной водой, горячей предгрозовой водой; когда кровь вязкой смолой застыла в висках — в тот вечер Дмитрий Иванович понял, что скоро умрёт.
Он и сам не мог понять, отчего вдруг возникло у него это предчувствие. На таком пустом месте, где и предчувствий-то никаких быть не может.
Не то, чтобы совсем не было к этому никаких оснований… Конечно, сорок семь лет — не молодость. Не двадцать семь и даже не тридцать семь. Но ведь и не семьдесят…
«А отец-то мой не крепкого сложения был, и не богатырского здоровья. Пить… выпивал, конечно. Особенно почему-то перебирать стал выше всякой меры, когда на пенсию вышел. До пенсии-то ещё ничего. Так, пару стаканов по воскресеньям. По праздникам парочку. И с друзьями иногда… Но сильно-то не пил, и вёл себя тихо. А вот как на пенсию вышел — понесло по кочкам… счёт уж не на стаканы — на бутылки пошёл. И пошёл, и пошёл… А вот всё равно — до семидесяти шести дожил. Ох, плохо, плохо мне отчего-то!..»
Не то, чтобы и прежде всё было хорошо. Как перевалила жизнь Дмитрия Ивановича за сорок годов — стало всё не так. К нему пришли сны.
Сны рваные и неровные, выцветшие, будто старая, затёртая бесконечными прогонами, многократно склеенная на обрывах киноплёнка. Копия фильма, настолько плохая, что и звук в нём уже не слышен, половина эпизодов выпала куда-то безвозвратно, оттого и смысл не понять, да и вообще не разобрать ничего, кроме серо-белых мелькающих пятен и не услышать ничего, кроме шипения, смешанного с плавающим, невнятным гулом.
И дыхание ослабело, так что воздух стал проникать в лёгкие едва ли до половины.
И казалось, что и слова, отпущенные ему на жизнь, все уже кончились и, продолжая жить, стал он их говорить по второму, третьему или ещё какому-то, может быть, уже сотому разу — слова всё одни и те же, когда-то им уже сказанные.
И ждал Дмитрий Иванович того момента, когда и жизнь станет описывать долгие круги, и станет он видеть себя — каждый раз прежнего, разве только чуть хуже, чем прежде.
Но…
Всё в тот вечера было как обычно. И немного, совсем не много не так.
И посвистывало под рёбрами на вдохе, и сердце болело в тот вечер, как обычно болело оно в такие вот душные летние вечера (ровной, давно привычной уже, домашней болью), и плотный, не глотаемый, будто из тугой резины слепленный комок всё так подступал к горлу, дни, и мелкие белые мушки в глазах прыгали при каждом резком повороте головы (а иногда — и при лёгком наклоне), и дышать…
— Всё, всё обычно…
Если бы заранее поставить в холодильник пиво…
Если бы догадаться, что вечер будет таким бесконечным…
— Я уже не молод, совсем не молод.
…Вот с дыханием-то было и не так, что-то не так как прежде. Что-то в лёгких было сегодня не так. Как будто тяжесть дыхания стала настолько хорошо ощутимой, что стало ясно, так отчётливо ясно, как придёт смерть.
Она придёт тяжестью. Нарастающей тяжесть дыхания, переходящей в удушье.
— Ты что?
И этот свист…
— Иваныч… Чёрт ты старый! Ну что разлёгся опять?
Веник смочен водой, пыль липнет к прутьям.
— Ноги хоть подними!
Так лежать и пить — глоток за глотком. Сегодня суббота. А она не поверит — подумает, что бездельник…
— Бездельник ты, Иваныч. Как пить дать! Вот машину продал, а зря…
…Вот так закроешь глаза — и получится, что навсегда. Так просто это может случиться. А она будет мести пол… Веник по линолеуму — шуршание, шуршание. Справа налево…
— …Там, за окружной — земля есть. Мне соседка говорила. Огород вскопать можно, помидоры посадить. Знаешь, сколько на рынке сейчас помидоры стоят?
— Не знаю, — ответил Дмитрий Иванович.
И закашлял от ненароком попавшей в горло слюны.
«А ещё ведь и подавиться можно!»
— Это всё потому, что, дармоед, на рынок не ходишь! — заявила супруга его, Тамара Николаевна.
И особенно резко, почти наотмашь, махнула веником. Так что с непросохших прутьев брызги полетели на диван.
— Бога побойся, — слабым голосом ответил Дмитрий Иванович. — Я для кого баранку кручу? Для кого в три утра встаю? Для блажи своей?
— Это твоя…
«Вот ведь дура-то досталась!»
— …работа такая! — ответил Тамара Николаевна, заметая мусор в совок. — Это у тебя долг твой — семью обеспечивать. Баранку крутить не только на работе мог бы. Вот лежит теперь с самого утра, стонет. Чего ради? Жалости хочешь? Сочувствия? О себе только думаешь, Иваныч. О болячках своих. А это нехорошо, совсем нехорошо. Только и мыслей, что о плохом…. Между прочим, у тебя двое сыновей взрослых. С Семьями, с внуками. Нашими же внуками. И много ли радости им на деда такого смотреть? Вот и дёргай тебя всё время, вот и дёргай…
Шторы слегка качнулись от слабого, но уже не по дневному прохладного ветра.
Ветер подул ещё раз. Немного сильнее. И потом — резким, холодным порывом откинул лишь слегка прикрытую форточку, будто в досаде, что не пускают его. И потоком — блаженным, влажным, предгрозовым, невидимым, то так ясно ощущаемым воздушным потоком заполнил комнату.
«Может, станет легче?»
Комок сглотнулся, и белые мушки отлетели от глаз.