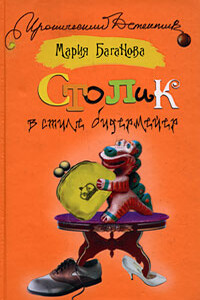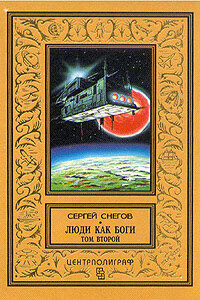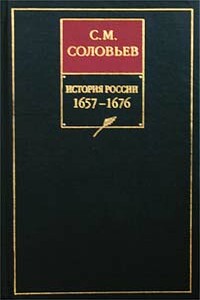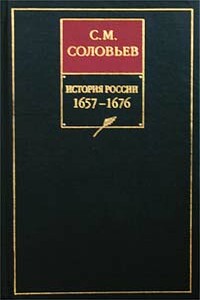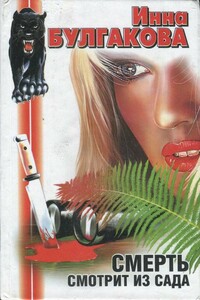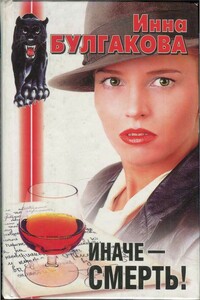Меня убили 10 июня 1994 года, но непостижимым образом я остался жив. Однако — без памяти. Мне как будто двадцать лет, а на самом деле сорок, полжизни словно корова языком слизала. Доктор говорит: ты не хочешь вспоминать. Я посмеялся про себя (я им не верю): кто ж добровольно откажется от нажитого? Другое дело, кабы юность вернули. Нет, сегодня вглядывался в зеркало в больничном коридоре: немолодой здоровенный дядя, весь заросший, голова бритая. Тут меня тетя Дуня (полы мыла, санитарка наша) и просветила.
Мне-то голову морочили: упал, мол, с лестницы, сильное сотрясение заработал. Оказалось, нашли меня соседи в моем загородном доме в мастерской без признаков жизни. Я лежал средь скульптурных обломков, неподалеку — кувалда. Ею, надо думать, сокрушили меня и мои, что называется, творения (забыл, как они называются?.. Статуи!.. А инструменты?.. забыл). Вот почему, наверное, я никак не хотел признать себя скульптором. «Ты — скульптор», — твердил врач. — «Нет, живописец!» Я помнил себя на первом курсе Суриковского, как я все пейзажи рисовал. «Ты вскоре переквалифицировался, стал известным…» — «Не знаю и знать не хочу!»
Это не Капри, а… страх. Надо признаться честно: я безумно боюсь, а чего — не знаю. Главное — они от меня все скрывают. Да вот нашлась же добрая душа. «Случай, — говорит, — непростой, собираются тебя в московскую больницу везти, в главную психиатрическую». — «Это за что же» — «За то, что ты человек заслуженный». — «Тетя Дуня, — взмолился я, — как бы мне одежду мою вернуть?» — «И-и, милый, ее милиция забрала». — «Зачем?» — «Кровь», — проговорила старушка таинственною ну, не в больничной же пижаме сбегать? Поймают еще, свяжут. Я упрашивать начал: любую одежду, я заплачу. И за хлопоты заплачу. Она сжалилась: «За хлопоты, — говорит, — не надо. А за штаны, деда моего, десять тыщ, и за майку с рукавами — пять».
Ну, подкосила меня сумасшедшая старушка! За пятнадцать тыщ сколько лет работать надо? Не меньше пяти? Тут она меня опять просветила, десятитысячную купюру показала (с виду — натуральная фальшивка!) — и очутился я в мире не нашем, инфернальном: буханка хлеба — девятьсот рублей. И подумалось: а стоит ли в такой мир убегать? Но я не хочу в главную психиатрическую, хватит!
И потом: я изумлялся и возмущался, а в душе как-то на этот счет спокоен был. Ну, конечно, я в здешнем мире жил и все знаю, только подзабыл на время.
В общем тетя Дуня мне поверила на слово (денег-то при себе нету) и штаны с майкой к вечеру принесла. «Человек ты, — говорит, — богатый, известный, уж два месяца, бедняга, в больнице маешься. Иди, — говорит».
Адрес мой — станция Змеевка, неподалеку — она мне дала, дорогу сообщила. И я двинулся проселками. Пешком. Побоялся — хватятся, и хотелось присмотреться, где ж я жил. Миновал полустанок Темь, а там до Змеевки километра два. Местность незнакомая, то есть я ничего не помню. Но хорошо, вольно — ветер в пустом поле, слева перелески березовые, сосны — прохожих почти нет. Встретился старик с корзиной грибов, сказал: иду правильно — поглядел с любопытством. Я босиком, обуви лишней у тети Дуни не нашлось, а шлепанцы больничные с ходу развалились.
Нашел дом на улице Солдатской. И аж остановился пораженный. Если это мой дом, я человек вправду небедный. Высокие каменные хоромы, открытая веранда, второй этаж почти сплошь застекленный, должно быть, мастерская. Сад пышный, заросший, августовский, «золотые шары» тревожно сверкают в закате. С робостью подошел к ступенькам, взобрался; дверь, конечно, заперта.
Тут меня ждал удар первый. В соседнем саду под старым могучим дубом белела скульптура на низком постаменте. Почему удар, чего я испугался? Вспомнился Пушкин — до двадцати лет я кое-что помню, много, наверное, помню.
Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила;
К ней на плечо преклонен, юноша вдруг задремал:
Дева тотчас умолкла, сон его легкий лелея,
И улыбалась ему, тихие слезы лия.
Такой тоской вдруг повеяло. Я сел на ступеньку, что-то не хотелось мне входить. Боюсь — и все! А куда деваться бедному безумцу?.. Слева в зарослях зеленовато-замшелая шиферная крыша — вот куда, в сарайчик; если есть возможность — там переночую, а завтра разберемся. Я прошлепал по узенькой тропке к сараю, дверца на наружной щеколде. Отлично. Отворил. Вечерний красный свет зажег просторное пространство: ящики с глиной и цементом, железная дверь арматура и т. д. — хозяйство скульптора. Посередке — длинный грубосколоченный стол, а на нем гроб. У меня, что ли, умер кто? Или я не туда попал?.. Богатая домовина, полированная, со специальными замками.
Я подошел, провел ладонью по крышке — пыли немного. Повозился, открыл, крышка откинулась с тупым стуком. Пустой гроб, покойника дожидается… не меня ли? Захотелось в свою палату, сейчас ужин. Нервные обсуждают кашу — перловка или перловка с пшеном?.. Закатный огонь внезапно погас — в дверном проеме стоял человек.
— Простите, вы хозяин? — пролепетал я; перепутала старушка адрес: не мог мне принадлежать этот дом… этот гроб.
— В каком смысле? — испугался человек.
— Кто вы?
— Твой друг. Не узнаешь?