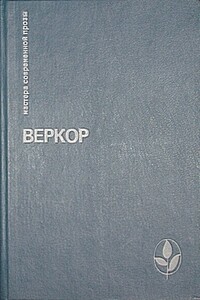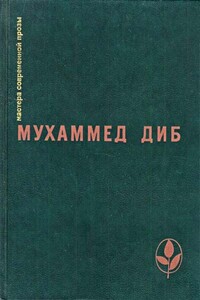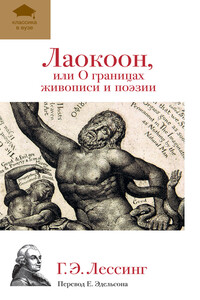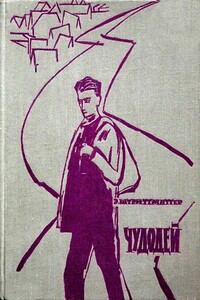Так же безоговорочно, как поэтам, я верю ученым, ибо постиг, что в каждом истинном поэте скрывается ученый, а в каждом истинном ученом — поэт. И каждый истинный ученый знает, что его гипотезы суть смутные поэтические предчувствия, а каждый истинный поэт — что его смутные предчувствия — недоказанные гипотезы. Но ни тот, ни другой не дают сбить себя с толку и, весьма возможно, считают себя полярными противоположностями.
Я видел пьесу, ей было пятнадцать лет от роду, и я сам написал ее. Передо мной разостлали мою старую, сброшенную кожу. Вещью в себе лежала передо мной сброшенная кожа мыслей и слов, и мне не было до нее никакого дела. Ибо я хожу облаченный в новую кожу новых мыслей, и эти мысли я тоже облекаю в слова и в один прекрасный день надеюсь сбросить и эту кожу.
Атом соединяется с другим атомом, становится человеком и пытается в этом обличье узнать что-то о себе самом.
Куда девается это знание, когда атомы снова разъединяются? Остается ли частичка его в каждом атоме? Или опыт возникает только в сочетании атомов? Если это так, то не имеем ли мы здесь дела с пресловутым deus ex machina, богом из машины?
Мне кажется, что в раннем детстве я услышал звук, вернее, тон, мой тон. И вот я ищу его пятьдесят лет, ищу в гуле оркестра и в простейших пьесках, в шуме струящейся воды и в шуме ветра. Он возникает то там, то здесь, и я не теряю надежды встретить его одного, звучащего только для меня.
У кого есть хороший сюжет и хорошая концовка, может писать просто; у кого их нет, тому приходится расцвечивать свой стиль.
У кого есть дело жизни и план осуществления его, может молчать, у кого их нет, тому приходится болтать.
Кто любит, тот любит; тому, кто не любит, приходится говорить о любви и требовать ее от других.
В сумерках утра я вдохнул песню лесного жаворонка. Я не знаю, была ли то первая утренняя строфа или последняя ночная, только песня жаворонка погасила во мне досаду на зря растраченное время. В первый ли утренний час или в последний ночной — во всякое время возможно создать главное, даже за день до смерти, сказал я себе.
Я счастлив, когда мне удается заметить прекраснейшие минуты моей жизни, пока они еще длятся, а не узнать о них потом по сравнению или воспоминанию.
Если я не буду иногда молчать, я не услышу, чего хочет и ждет от меня жизнь.
Что должен я делать? — спрашиваю я.
Ты должен делать полезное, отвечают мне.
Что значит полезное? — спрашиваю я.
То, что приносит пользу обществу, отвечают мне.
Нет, говорю я, полезное — это то, к чему у меня есть склонность, но я должен делать это полезное так хорошо и основательно, чтобы оно стало необходимым обществу.
Я смотрю на своих отцов и говорю: «Жизнь кончается!»
Я смотрю на своих детей и говорю: «Жизнь начинается!»
Я смотрю в глубь самого себя и не чувствую ни конца, ни начала.
По поводу смерти друга.
В минуты, когда тот, с кем ты много смеялся, с кем ты чувствовал себя связанным в жизни, умирает на твоих глазах, ты питаешь метафизические надежды и сторожишь малейший знак или кивок ушедшего как предостережение или приглашение.
Человеческие лица суть записные книжки жизни. Записи в них делаются рунами. С годами я все лучше начинаю разбирать их; подозреваю, что предсказатели и пророки в совершенстве владеют этим искусством.
Страна моего детства лежит не за тридевять земель, она во мне, никто ее у меня не отнимал, просто туда нелегко найти дорогу.
Когда придет мое время, мне бы хотелось уйти в майский день.
Я здесь — значит, я нужен, сказал я сам себе, когда мне было около тридцати лет. Если я стану меньше внимания обращать на намеки, нашептывания и уговоры, станет ясно, для чего я здесь.
Кто пьет прокисшее молоко, с отвращением отворачивается от того, кто ест протухшие яйца.
«Национализм». Когда-нибудь наши потомки при этом слове будут так же недоумевающе пожимать плечами, как мы теперь, когда речь заходит о родовой вражде или кровной мести.
Ноябрьский день. В твоем саду пылает последняя роза. Ворона плывет с дерева на куст. Падают листья, падают, падают… Не ветер срывает их, туман их увлекает за собой и мягко опускает на землю. В твоем саду пылает последняя роза. Я смотрю на нее, чтобы сохранить ее.
Я приучаю себя, взявшись за всякое новое дело, проверять: не тщеславие ли заставляет меня его делать — и, если к моим побуждениям примешивается суетность, отказываюсь от него.
Самый действенный способ передавать накопленный опыт — жить согласно ему.
Никогда и ни за чем не гнаться, все придет ко мне само, если я буду вести себя как человек.
Золотисто-желтая иволга пугливо перелетает с ветки на ветку старой ракиты под моим окном. Она хлопочет, у нее там гнездо. Ракита обошлась бы и без иволги, но иволга не может обойтись без ракиты. Иволга — золотистая фантазия старой ракиты.
Луг полон цветов. Коровы выходят на луг и находят там только корм.
С волками жить — по-волчьи выть, но надо считаться с тем, что в один прекрасный день волки распознают фальшивый вой мнимого волка и сожрут его.
Если я остаюсь верен самому себе, я могу не думать о своих врагах. Они отпадают от меня, как клещи, насосавшиеся крови.