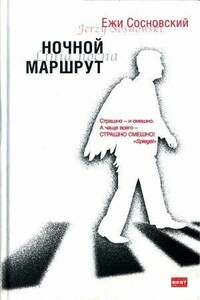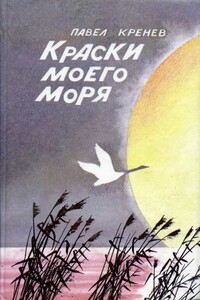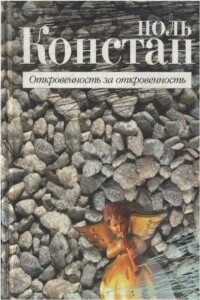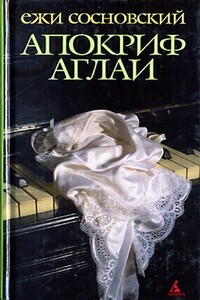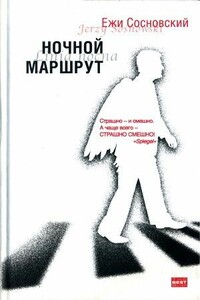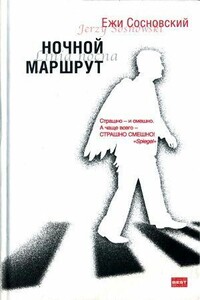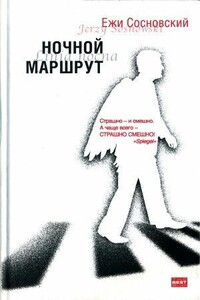…можешь мне все сказать.
И ты можешь мне все сказать.
Я буду об этом помнить, камень.
Рышард Крыницкий
* * *
Желто-синяя лента дыма с грохотом исчезла в туннеле, и перед нами открылись спокойные в этих местах воды Попрада. Река неторопливо текла, чтобы лишь через несколько сотен метров, в излучине, отдаться во власть водоворотов, разрывавших ее как будто на две руки, которыми она печально обнимала скалистый островок. Холмы были пологие, а за нашей спиной, на словацком берегу, они величественно вздымались, ощетинившись рыжеватыми елями. Лес рассекало шоссе, каким-то чудом прилепившееся к отвесному склону, над туннелем закручиваясь в завитки горного серпантина. Над шоссе тарахтел невидимый отсюда трактор, заслоненный зданием станции, – я вспомнил, что мы миновали его, пересекая площадку перед водолечебницей, где остановились на секунду с тем характерным ощущением преувеличенного триумфа, которое охватывает человека, когда после нескольких километров утомительной ходьбы он оказывается у цели. Лидуся не спрашивала, а я не признавался, почему безошибочно нахожу правильную дорогу к железнодорожной станции – несколько десятков метров влево по шоссе, а потом по ступенькам вниз, к реке, мимо разросшейся теперь купы деревьев. Как подобает начинающему журналисту, она сразу же купила газету и теперь в ожидании поезда до Старого Сонча погрузилась в чтение. Я не хотел так быстро возвращаться к цивилизации, во всяком случае, к нашей, сегодняшней. У меня здесь были другие дела.
Вообще-то я не думал, что мы доберемся до самого Жегестува. Отправляясь утром на прогулку, мы собирались спуститься на шоссе раньше, в Верхомле; но путешествие оказалось славным, августовское солнце приятно грело, и это Лидуся, а не я, предложила продлить маршрут. Наверное, когда я кивнул, у меня на лице промелькнула улыбка, а она, очевидно, приняла ее за выражение общего удовольствия от того, что мы вместе, что вдруг потеплело и что мы каким-то чудом не встретили ни одной группы шумных туристов. Да, это тоже на меня подействовало, но не только. Даже Лидусе я до сих пор не рассказывал своих снов.
Из газет в киоске оказался только «Суперэкспресс», который она взяла со вздохом. Я запротестовал, когда она попыталась прочитать мне репортаж об очередном зверском убийстве, тем более – когда перешла к зарубежным новостям. Сейчас – я видел ее с перрона – она сидела на лавке, с разочарованием откладывая последние страницы. Мне стало немного жаль ее: во время отпуска, вдали от дома, ритуал чтения прессы был и для нее лишен глубокого смысла; другое дело, если бы она могла увлечь им меня, соучастника по делам того мира, который мы покинули на две недели. А я оставил ее наедине со всем этим. Не в первый раз, глядя на ее хрупкую фигурку, на вечно растрепанные волосы, резкие движения – она всегда была готова к игре, к радостному познаванию мира, словно молодой пес, – я уяснил для себя, что, по сути, мы не подходим друг другу. Что делал рядом с ней этот молчаливый парень, почему она хотела быть со мной? Самые сильные мои проявления эмоций казались рядом с ней живостью пня, по которому прыгает белка.
– Ничего нет, – сказала она, заслоняя рукой глаза от солнца. – Самое интересное, похоже, лотерея. Смотри – «сдирать здесь». Проверим? Вдруг мы выиграем машину? Ну что, Анджей?
Я покачал головой и скрылся в зале ожидания. Меня удивило, как мало он изменился с тех пор, когда я приезжал сюда каждый год в детстве. У меня осталось ощущение тоски по тому времени, смутное, но постоянно усиливающееся и тем не менее легко преодолеваемое в сновидениях: какие-то танцы на террасе дома отдыха под шелест юбок страшно высоких женщин, Петр Шчепаник, ревущий из динамиков «Никогда больше не смотри на меня таким взглядом», четыре старика, целый день играющие в бридж над рекой в тени ольшаника, – и все солнечней, ярче, чем в воспоминаниях из менее древних пластов яви. Явь, юра, триас. И отец, ищущий поезд на Крыницу в больших листах расписания, которыми оклеены толстые деревянные балки в здании станции. Эти балки были тут и сейчас, прикрепленные к деревянной раме напротив билетной кассы, но теперь они показались мне меньше и в то же время толще. Я машинально завернул бумагу на одной из них и убедился, что глаза меня не обманывают: старые расписания не сдирали с балок каждый год, а наклеивали одно поверх другого, поэтому древесину покрывал толстый слой пожелтевшей бумаги, бумажный нарост. Я попробовал подцепить его ногтем – с краю бумага поддалась довольно легко. Я улыбнулся: представил себе, как на глазах у кассира срываю слой за слоем, стараясь добраться до тех, тридцатилетней давности. Если бы я умел смеяться так громко, как Лидуся, может быть, я бы решился на это. Но по телу пробежала дрожь, точно перед большим соблазном.
Не уверенный в том, что устою, я отошел от расписаний и провел ладонью по облупленной тускло-зеленой стене. Краска посыпалась от моего прикосновения, обнажив предыдущий, желтый слой. Я поскреб раз, другой: глубже стена оказалась розовой – да, в те времена, когда мы приходили сюда всей семьей, зал ожидания был, кажется, розовым. Тот зал ожидания был скрыт под этим, картины прошлого дремали под видом новых. Я уже не мог остановиться – сперва украдкой, а потом открыто начал отдирать зеленые и желтые клочки, а потом встал возле окна и протер его решительным движением: следуя за моей рукой, по рельсам проехала дрезина, переделанная из горбатенькой «Варшавы», я хорошо ее помнил. Взбудораженный открытием, я принялся действовать энергичнее: погружал руки в воздух и разгребал, как ряску, обнаруживал каких-то людей, оглядывавших зал ожидания, только что проснувшихся, – женщин в смешно изогнутых, как кошачьи глаза, солнечных очках, в цветастых расклешенных платьях, мужчин, несущих советские транзисторы, комплекты для игры в серсо, лимонад в бутылках с фарфоровыми пробками.