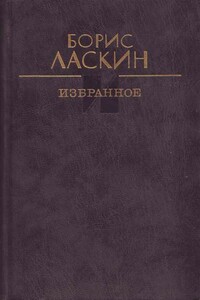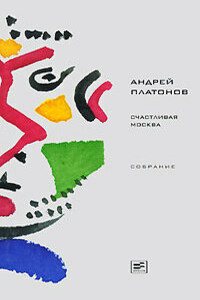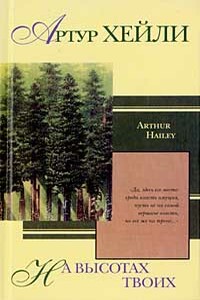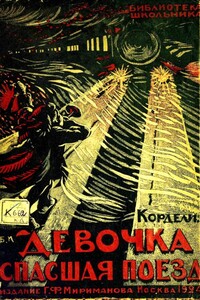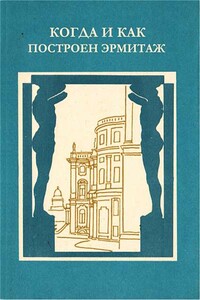На том берегу Байкала, на границе между дремучей тайгой и бескрайней волнистой степью, уселись рядами остроголовые сопки. На их спинах — клочья смешанного леса. Чуть ослабнут трескучие морозы, холодный северный ветер, как в трубе, гудит в распадках между сопками. А в падях и долинах, притаившихся за их неплотными рядами, с вечерней зари до утренней не умолкает прозрачный звон мороза.
Правда, днем иногда тихо падают снежинки и долго кружатся в воздухе, словно высматривая, куда лечь поудобнее. Порой можно даже заметить робкую улыбку солнца. Но вечером мороз опять поет, как железо под ударами молота. И звезды весело перемигиваются, разбежавшись по небосводу. А в начале февраля, в сумерках, покажется в вышине гордый Белый месяц[1].
Но не часто бывают здесь такие ясные дни и ночи, Огромное радужное кольцо вдруг охватит солнце, и залютует зима, показывая свой характер. А утром небо снова будет улыбаться, даже веселые капли побегут с крыш…
Капризен и своенравен характер забайкальской природы. Здесь сталкивается холодный северный ветер с теплым южным, и в схватке взметают они сугробы и целые снежные холмы — начинается буран. Тогда в степи человеку ничего не стоит заплутаться…
Полночь. Может быть, даже — далеко за полночь, а Дамдину не спится. Он курит беспрерывно, зажигая одну папиросу от другой, и желтое пятно высвечивает усталое, заросшее щетиной лицо. На табурете у постели жестяная пепельница. Едкий дым клубится в стреле лунного луча, пронзившего ставню, и на стене отпечаталась золотая монетка — кружок выпавшего из дерева сучка.
Сильные пальцы придавили окурок в пепельнице — даже жестяное донышко прогнулось. Золотой кружок притянул его взгляд, и мягкое сияние проникло в душу, словно высветило в ней круглое окошко. Оно расширялось, расширялось и стало большим окном, через которое Дамдин заглянул в прошлое и увидел свою красавицу жену, что умерла недавно, оставив его с тремя детьми.
…Дарима звонко смеется. Ее веселые глаза, искрящиеся светом из узких разрезов век, блестят слезами — это от смеха, который выплескивается между ровными рядами белых зубов. Две ямочки пятнают щеки, то появляясь, то снова исчезая. Длинные волосы обрамляют черной лентой лицо, падают толстыми косами на низкую грудь. Девушка хватает Дамдина за руку и, словно сбитая с ног неудержимой волной любви, падает на колени в высокую мягкую траву возле весело журчащего родника…
Дамдин до сих пор не может забыть теплоту и упругость ее полных губ. И голос ручья, бьющего из земли, звучит, словно песня первой любви. Самой сильной любви, зажигающей огонь надежды на долгую и счастливую жизнь.
Перелистаем страницы жизни Дамдина назад, года на три-четыре.
Он вернулся с фронта, когда отца уже не было в живых — умер от болезни желудка. А мать, хворая, тщедушная женщина, вынесла все невзгоды и дождалась-таки сына. Ее приютили родственники, и ветхий дом стоял хмуро, одиноко, без крыши, без стекол. Каждый звук отдавался в пустых стенах страшным мерцающим гулом. Из всего хозяйства осталась только корова. Она была единственной кормилицей старушки. Молока давала столько, что хватало и на хурэнгу[2] и на айрасу[3]. А девушка, что провожала новобранца в военкомат, а потом на станцию до эшелона, не дождалась: вышла замуж за однорукого фронтовика, друга Дамдина. На следующий день после возвращения отвез солдат свою мать в аймачную[4] больницу, вернулся и начал работать.
Он всю весну провел на фермах. Жить приходилось все еще по-военному. Верно служила ему поношенная серая шинель — и от холода укрывала, и постелью была. Кормов не хватало, скот не выдерживал холодной зимы. Изголодавшихся коров за хвосты поднимали с земли, либо обматывали веревками — бригадир определил Дамдина на новую «должность» — подъемщика коров. А коровы, чуть подует ветер или поскользнутся на льду, грохались на землю, и, казалось, никакая сила не заставит их встать. Трудно приходилось в те дни солдату.
Лето в тот год припозднилось. Измученные люди ждали его с нетерпением: оно принесет молодую траву, благодатное тепло. И когда пришло это первое мирное лето, Дамдин днями не слезал с сенокосилки. И здесь, в бригаде, подружился с Даримой — младшей дочерью колхозного сторожа Баадая.
Как-то в полдень, в самую жару, захотелось пить — ничего странного: в полдень кому пить не хочется? Он и пошел знакомою дорожкой к маленькому ключу, что, журча, выбивался из-под каменистой сопки. А к тому времени — случайно, конечно, — там оказалась и Дарима. Она напилась уже, и холодная ключевая вода блестела на полных губах. А рядом отбивалась хвостом от комаров и мух ее лошадь, запряженная в грабли. И пел свою песню ручей, знакомую, нескончаемую песню…
…Вечером они соорудили из сена и хвороста маленький шалаш и развели в нем свой огонь. Родители не упрекали их, только старик сторож насмешливо покосился на свою старуху и сказал:
— Радуйся. Твой приплод.
И потом долго молча сидел, словно огромный, грубо отесанный серый камень. Старуха тоже сидела не шелохнувшись — она давно привыкла к упрекам своего мужа.
Мать Дамдина плакала от радости. Она вернулась из больницы, не зная, что врач мрачно сказал сыну: «Организм износился. Лечение не поможет. От старости да от тяжелой жизни лекарства еще нету». Только четыре дня и знала старушка ласковые руки своей невестки…