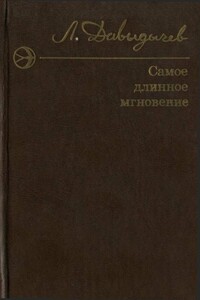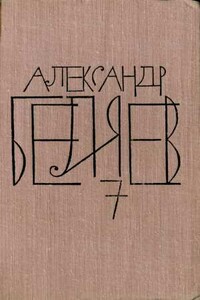Я был на практике в поисковой партии. Геологи — сумрачные и раздраженные оттого, что их не посылают на фронт, — не разговаривали не только со мной, но и друг с другом. Худые, небритые, сосредоточенные на одной мысли, они опасались в работе: за день мы проходили не меньше сорока километров.
Поздними вечерами, наполнив желудки в основном водой, мы лежали в избе, вытянув натруженные ноги, дымили самокрутками и слушали тоскливые девичьи песни, невеселый женский смех за окнами. Мы были единственными мужчинами в деревнях, через которые вел маршрут нашей партии.
Женщины звали нас песнями и смехом — без надежды, и, верно, сами бы удивились, если бы кто-нибудь из нас ответил на их зов.
Очень часто голод побеждал все остальные ощущения. Было одно желание — не просто поесть, а набить себя пищей.
Мы с мамой жили очень тяжело. Утром я выходил на кухню, а мама прятала хлеб. Когда приступы голода были особенно сильными, я искал спрятанный паек. Но ни разу не нашел его. (Только после войны мама рассказала, что подвешивала хлеб на окне, за шторой.)
Однажды, вернувшись из маршрута, я увидел на крыльце нашей избы девушку — такую, какими кажутся все девушки в юности, — легкую и светлую. Это была Леля Соколова, со второго курса. В техникуме мы только здоровались.
Здесь же, когда пришлось делить радости и невзгоды трудной геологической жизни, мы быстро подружились. Было в ее отношении ко мне что-то материнское. Сердце сжималось от счастья и сладкого стыда, когда она делила еду на две неравные части.
Ее мать работала в продовольственном магазине, и из города Леля привозила полный рюкзак снеди. И я краснел не от жара костра, на котором в котелке бурлил наш вкусный ужин…
— Все равно на всех не хватит, — успокаивала меня Леля, и я перестал краснеть.
День ото дня, а может, час от часу мы все чаще встречались глазами.
Как-то ночь застала нас в лесу. Я разжег огонь. В его отсветах Лелино лицо казалось бледным. Мне было весело и жутко сознавать, что мы в опасности, что кругом зловещий лес, наполненный таинственными шорохами. Страшнее, но и желаннее их была тишина. Когда она внезапно и ненадолго наступала, нервы в ожидании чего-то натягивались. Стоило протянуть руку в сторону, и ее схватывал холод.
Костер дышал тепло и ровно. У меня чуть кружилась голова — от голода и необыкновенного ощущения близости…
А до утра было далеко.
— Холодно, — сказала Леля.
— Ничего, — ответил я, — не бойся.
— Я не боюсь.
Временами на меня наваливалась дрема, и я словно опускался куда-то.
— Иди ко мне, — услышал я, — холодно.
Под моей рукой билось ее сердце. Она ничего не говорила, не двигалась.
Только когда начало светать, она спросила с сожалением:
— Пойдем, да?
Мы шли быстро, будто бежали от уже содеянного греха.
Несколько дней Леля казалась мне чужой — так бывает после первого обнаружения близости. И, конечно же, я верил, что самой судьбой мы созданы друг для друга.
Никто не замечал наших отношений. Для геологов мы были просто практикантами, нам давали задания, учили работать и — все.
Нас стали посылать в самостоятельные маршруты. Это значит: рано утром мы уходили в путь и до вечера были вдвоем.
Едва мы сворачивали с дороги в лес или в поле, Леля радостно вздыхала и снимала платье. Была она доверчива и совершенно не считалась с тем, что я, так сказать, мужчина, а она женщина, спокойно шагала впереди. Сильная и гибкая, с гладкой смугловатой кожей, она — среди лугов, цветов и солнечных лучей — словно вместе с платьем снимала с себя будничность и обыкновенность, все, что может вызвать земные желания.
А я с каждым днем все чаще и чаще ловил себя на мысли, что рано или поздно кровь ударит мне в голову. Думалось об этом чисто и откровенно.
Но Леля ничего не замечала.
Сидели мы однажды в тени, утомленные походом. Неожиданно для себя я опросил:
— А если не сдержимся?
Она покраснела, подтянула колени к подбородку и, помолчав, ответила:
— Не знаю… А почему ты спросил? — Леля нахмурилась, взгляд ее стал попуганным. — Разве можно об этом думать? Да как тебе в голову это пришло? — Голос ее звучал недоуменно, а выражение лица приняло суровый оттенок. — Как тебе не стыдно?
Удивительно, но мне не было стыдно. Не было стыдно даже за то, что не стыдно. Я любил, я был уверен в своем чувстве, не боялся его, не боялся за него. И еще я убедился, что сильнее любви нет ничего на свете.
Когда двинулись в дорогу, я сказал:
— Я ведь не хотел тебя обидеть.
Она улыбнулась, и в улыбке проскользнула грусть. Я шел следом и думал, что ведь Леля испытывает то же самое, что и я.
Тропинка, по которой мы шли, вела вдоль глубокого, с крутыми, почти отвесными стенами оврага, называемого почему-то Волчьим. По дну его были ямы, края которых заросли крапивой и малиной. О глубине ям никто не знал. Местные жители предпочитали обходить овраг стороной.
И мне в голову пришла отчаянная мысль: свалиться бы туда, изувечиться и сказать Леле:
— Это из-за тебя!
И не успел я подумать, как земля под моими ногами обвалилась и я поехал вниз на куске дерна. В первый момент я окоченел от страха. Но вот движение остановилось. В трех-четырех метрах от меня — черный зев ямы. Ухватиться не за что. Я боялся открыть рот, боялся повернуть голову. Боялся дышать, даже думать боялся. Ведь пошевелись подо мной хоть одна песчинка, и я полечу в яму.