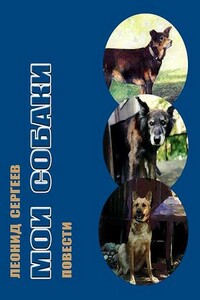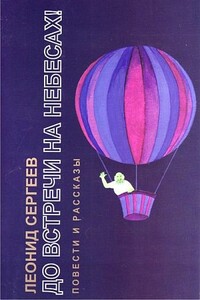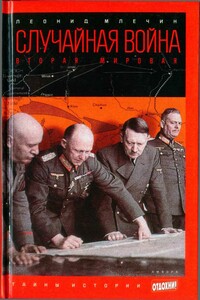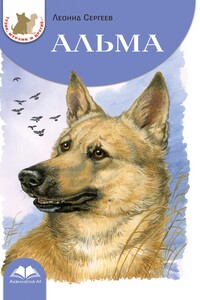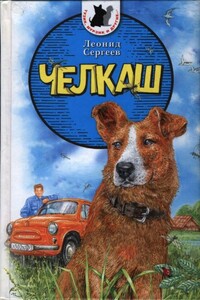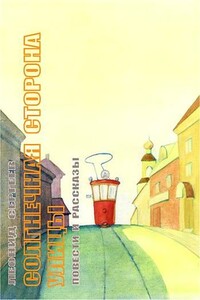То есть посмотри назад, вспомни свое детство и юность. Это рассказы — размышления, прощания… Автор не знает, как лучше их назвать: «Широкий ромашковый луг», или «До свидания, Аметьево!», или «Прощание с друзьями». Пусть читатель сам выберет, что ему больше нравится.
1.
Там, где прошло мое детство, было два неба: одно над головой, другое под ногами — там столько росло колокольчиков, что рябило в глазах от синевы. А какой там был воздух! С запахами цветов и свежескошенной травы, и зеленых бархатных мхов, и выбитых троп, и древесины, и овощей с огородов… А то утреннее солнце! Вокруг поселка стеной стоял лес, но мы просыпались от солнца. Оно горячими струями просачивалось сквозь ветви, просеивалось сквозь листву и, затопив весь лес, водопадом обрушивалось на поселок. Оно пробивало стекла, золотило мебель, наливало свет в корыта и ведра. В памяти подмосковная станция Правда — бесконечное лето, сплошные желтые дни, беспечные, емкие, насыщенные жизнью. С той станции идет отсчет моего времени.
Я часто вижу отца и мать: они, точно дети, на корточках играют под новогодней елкой, перебирают елочные игрушки, показывают их друг другу, шушукаются, хихикают… Оттуда, с неба, здесь, на земле, все кажется играми: белые — красные, левые — правые, и у тех и других свои идолы, знамена, значки — копошатся люди на шарике, все не могут что-то поделить, найти места для счастья; и вечно у них, неугомонных, зависть, раздоры, обиды. На небесах легко потешаться над житейской всячиной, а попробуй здесь…
Вот стоят передо мной: кустарник в блестках паутины… ручей, полный гладких камней, песчинок и ракушек… стебли, розетки и чашки цветов… и среди плывучего зыбкого разнотравья — лица матери и отца. Все застыло: птицы в воздухе, мальки в ручье, не колышутся травы и шиповник перед домом… Отец в «нарукавниках» склонился над чертежами, во рту папироса, повисла спираль дыма, в руке карандаш, отточенный «лопаткой». А мать, русоволосая, голубоглазая, смеется, запрокинув голову, звонким, чарующим смехом, смеется долго, до слез… От ее смеха сотрясался воздух, дребезжали стекла окон и посуда в шкафу, и было в этом веселье какое-то неприкрытое осмеяние повседневной суеты. Все так и замерло: взметнувшиеся волосы, белозубый рот, завихрения воздуха…
Ни отца ни мать не помню без дела. Отец по утрам, перед тем, как ехать на завод, окучивал и поливал овощи в огороде, а по вечерам работал за «домашним кульманом» (чертежной доской на стопке книг). Он работал даже во сне — бывало, ночью вставал и что-то зарисовывал, записывал…
Руки матери всегда были горячими или влажными: то, смахивая капли пота, она колготилась у плиты, у брызжущей маслом сковороды, то стирала белье в корыте, сдувая волосы, падающие на лоб, и всегда пела — негромко, для себя… Ее пение смолкало только когда она делала форматки на отцовских чертежах или печатала на пишущей машинке…
И отец и мать уже давно в другом мире. Только и осталось от них — отцовские очки, круглые, с перевязанной дужкой да простая брошь матери. Родителей я, грешник, и «Там» не встречу; отец был слишком честен и откровенен для своего лицемерного времени, а мать, по всеобщему признанию, — почти святой.