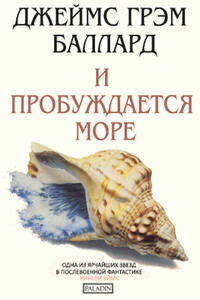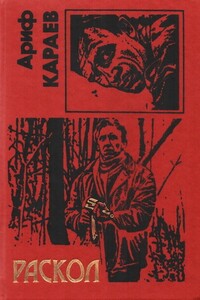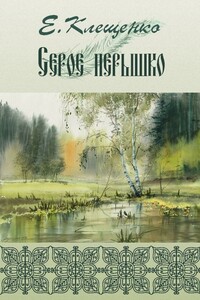— Двадцать два? Феноменально! Я думал, они столько не живут.
Помощник директора цирка был поразительно элегантен для своего жалованья. Правда, к визитке не совсем шел массивный золотой перстень, зато все остальное, от пробора до штиблет, было безукоризненно. Тон разговора в настоящий момент выражал снисходительность делового человека к чудачествам большого артиста плюс вежливое недоумение: что, мол, еще за вопросы после того, как обе стороны выполнили обязательства по контракту?
— Салли двадцать два года, — повторил Джереми.
В сущности, цирк, расположенный где-то в Европе между началом века и второй мировой войной, — прекраснейшее место действия, какого только может пожелать литератор. Словно в итальянской комедии, все персонажи придуманы заранее, все сразу на своих местах: пронырливые администраторы, чьи грязные приставания заставляют рыдать прелестных девочек-танцовщиц; семейная труппа акробатов и любимый сын в этой семье, обреченный сорваться с трапеции; клоуны — не нынешние жутковатые безумцы, а просто дураки, Руж и Беж, в Петрограде Рыжий и Белый, с дурацким ревом и фонтанами слез, они же — бледные злоязычные двое, пьющие водку в буфете; и рассеянный великий фокусник, и дивно прекрасная наездница, и жонглер со сверкающими ножами, и меха с бриллиантами в ложе, и господа, случайно забредающие в женские уборные с цветами и шампанским… и сияющий всеми огнями купол посреди ночного города, и грязь и беспорядок гостиничных номеров… Словом, мир уже сотворен и населен, и действие, происходящее в нем, во многом предопределено, что, естественно, сберегает время и силы сочинителя. Арлекин лукав, Пьеро слезлив, Тарталья мерзавец, и там, где они встречаются, сама собой возникает комедия. А что до традиционного рассказа из цирковой жизни, он романтичен и бьет на жалость, и мы не отступим от традиции.
Но, как бы то ни было, укротитель Джереми Флинн (на афишах Капитан Моро) не походил на циркового укротителя. Он не работал с бичом, у него не было псевдогусарского мундира со шнурами, и фрака он не носил ни на арене, ни в директорских кабинетах. Да и странен казался бы фрак или мундир при окладистой кудрявой бороде, когда-то русой, теперь почти сплошь серебряной. Скорее зверолов, чем дрессировщик, сказали бы вы. Притом и желто-коричневый нетускнеющий загар (следствие больной печени) наводил на мысль, что этот человек только что сменил пробковый шлем на шляпу и белый полотняный костюм на пиджак и брюки. На самом деле Джереми исколесил всю Европу, дважды гастролировал в Соединенных Американских Штатах, но вдали от железных дорог не бывал никогда.
Джереми был укротитель и не любил, когда его называли дрессировщиком. Его ремесло было в том, чтобы делать их кроткими, а не в том, чтобы заставлять их плясать наподобие собачек или медведей. В его номерах не было огненных обручей и дурацких пестрых тумб. Это могло быть названо пантомимой, живой картиной, представляющей романтическое или мистическое стихотворение, но подобные слова слишком мелки для действа, которое совершают львы. У Джереми и Ли были только львы. Ни тигров, ни пантер. И никаких трюков в собственном смысле этого слова. Сад восточного владыки, царь и царица, и огромные звери, послушные, как в раю. Ров перед замком, человек прижимается к стене, выставив перед собой бесполезный кинжал, а хрупкая женщина легко проходит между зверями, касается грив и, приказав отойти и лежать, протягивает руку пленнику…
Ли, жена и первый партнер Джереми, была восхитительна на манеже, но в обыденной цирковой жизни не имела поклонников. Ее облик, дышащий подлинной прекрасной древностью во время выступления, при дневном свете казался провинциальным и грубо-простонародным — хотя, вне сомнения, она была красива. Черных как сажа ее волос не касались щипцы парикмахера, и полных светлых губ она не подкрашивала кровавой или вишневой помадой. Ли не гнушалась сама носить ведра с опилками в клетки, промывать потертые лапы и сопливые носы. Ни опаски, ни брезгливости не было между хозяйкой и львами — именно хозяйкой, не дрессировщицей. Она не принуждала их, она играла со страшными хищниками, как девочка играет с котятами. Она могла скрутить два хомута из кусков брезента, надеть их на Соломона и Плуто и, усевшись в тачку уборщика, разъезжать по арене. Могла притащить патефон и танцевать, побуждая зверей притопывать и мотать головами в такт. То и другое не входило в порядок репетиций, а было всего лишь отдыхом от серьезных задач.
Умные люди говорили, что хищники есть хищники, бояться их естественно, отсутствие же страха опасно, и все это ни к чему хорошему не приведет. Умные оказались правы, хотя случилось не совсем то, чего они ждали. Сперва Ли стала жаловаться на недомогание — лихорадку, ломоту в костях, и на гребешке после причесывания оставалось слишком много волос. Она не особенно тревожилась, считая это последствиями родов, но знакомый врач со странной настойчивостью уговаривал пройти обследование. Джереми хотел бы забыть прощальную улыбку жены на крыльце госпиталя, хотел бы перестать снова и снова в повторяющихся снах ожидать ее у этого госпиталя на окраине Парижа… Две недели врачи вздыхали, ссылались друг на друга и увещевали подождать еще два-три дня, а потом один, самый старый и неулыбчивый, зазвал его из приемной в кабинет, пригласил сесть и сказал: «Милый, — проказа…», и вложил стакан абсента в мертвую руку Джереми. Ее уже не было в госпитале, прошло несколько дней, как ее отправили «туда».