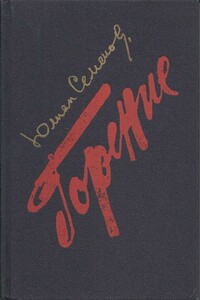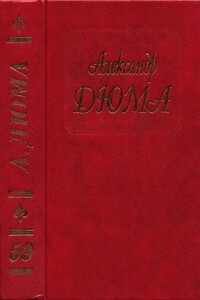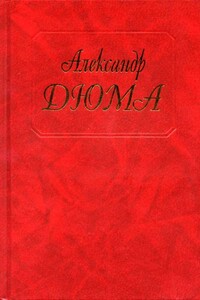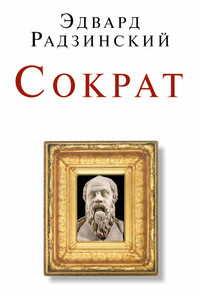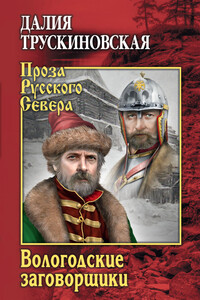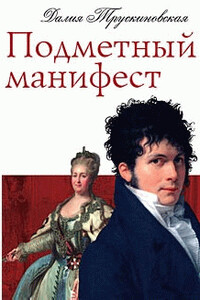Что осталось от хором князя Пожарского на Лубянке после Смуты? Да мало что осталось — как и от всей деревянной Москвы. Сохранились от богатых палат каменные подвалы, сохранился один из теремов, хотя не полностью. Чем чинить да латать все прочее — проще было строить заново. Князь с княгиней этим и занимались, насколько возможно. И более — княгиня Прасковья Варфоломеевна, потому что супруг постоянно был занят на государевой службе в Новгороде и подолгу отлучался из Москвы.
Да и не только служба держала его вдали от Москвы. В семидесяти верстах от Новгорода были его владения — богатое село Пурех и прочие земли. Следовало обустраивать «Пурехскую отчину». В селе князь построил Спасо-Преображенский храм и монастырь во имя святого Макария Желтоводского. В храм князь отдал на хранение боевой стяг нижегородского ополчения, там же пребывал образ Владимирской Богоматери, сопровождавший его в военных походах.
В делах строительства княгиня мало разумела, но князь оставил ей своего ближнего человека, на которого она во всем полагалась. Этот человек держал в строгости дворню, сам нанимал мастеров, сам тратил деньги князя, как считал нужным.
Одну из уцелевших после пожара горниц княжьих московских хором, приведенную в порядок, где еще пахло свежей стружкой, сразу отвели под крестовую палату. Раны, полученные на войне, порой сильно беспокоили князя, и выстаивать долгие церковные службы ему было затруднительно. Его утреннее и вечернее молитвенное правило было довольно коротким.
Как раз в крестовой Дмитрий Михайлович и находился с младшим сыном и ближними людьми, когда за ним прислали из Кремля. Старшие, Петр и Федор, уже служили государю Михаилу Федоровичу и недавно были пожалованы хорошим для юношей чином — стали рындами.
— Передай — тотчас же буду, — сказал князь гонцу, молодому и бойкому стольнику. Их при дворе набралось уже под две сотни, не каждый удостаивался особого поручения. И всех князю, понятное дело, не упомнить. Спрашивать, кто таков, князь не стал — незачем. Вроде бы — Волынских…
Стольник поклонился и ушел.
— А кушанье, поди, уже подано, — напомнил ближний человек, рослый и крепкий детина, темноглазый и чернобровый, с неожиданно тонкими чертами лица: борода и усы у него были чернее смолы, как у молодого, а вот голова круто поседела. — А я пойду распоряжусь насчет возка.
— Так, — одобрил князь, улыбнувшись старому боевому товарищу.
Он, взяв сынка Ивана, пошел в столовую палату, к жене и дочкам. А крепкий детина прямо из крестовой, даже шапки не надев, вышел на гульбище, которое еще не было достроено, вместо нарядного крыльца там, где быть тому крыльцу, — прислоненная к стене лестница.
Не придерживаясь руками, детина ловко спустился по ней — и был замечен дворовыми князя.
— Ахти, батюшки, Чекмай идет! — зазвенел бабий голосок.
Этого человека побаивались.
Еще в пору войны, водя отряд лазутчиков в поиск, Чекмай обнаружил, что научился ловко управляться с людьми — умеет заставить их себе повиноваться. До того, выполняя особые поручения князя, он этого в себе не замечал. Но обстоятельства потребовали — и дар Божий оказал себя. Более того — Чекмаю даже понравилось быть главным. Князь это заметил и как-то сказал:
— Годы у нас с тобой немолодые, мы набегались и навоевались, пора тебе осесть на одном месте и угомониться. Мои люди тебя знают, да и ты их знаешь. Словом, принимай бразды правления.
Князь Пожарский, поставленный воеводой в Новгороде, вынужден был проводить там немало времени, оставить за себя в московских владениях давнего товарища было решением здравым. Никакого чина Чекмаю он не давал — да и не ключником же было его назначать. Ключника меньше бы боялись, ключник — он вроде как свой и обычно подворовывает, потому ни с кем ссориться не станет. А этот ведет себя так, словно родной брат князя, хотя на деле всего лишь молочный.
— Климка, Миколка, сыщите мне Пафнутьича! — крикнул Чекмай. — Где он там запропал? Истреблю! Пусть закладывает вороного в возок, князю в Верх ехать! Подавать к главному крыльцу! Да полсть пусть ту берет, что я из Вологды привез!
Это была отличная медвежья полсть — огромная, чтобы не только лишь кончики сапог прикрыть, а по самую грудь седока. Кремль недалеко — да ведь здоровье у Дмитрия Михайловича не железное, зимой болел. А весна — так и вовсе дело гнилое… Посмотришь на двор — вздохнешь: снег вовремя не вывезли, слякоть чуть не по колено.
Конюшня, переделанная из небольшого амбара, была невелика — на две лошадки. Поблизости уже ставили новую — хорошую, теплую, предназначенную для дорогих аргамаков. Чекмай, стараясь не замочить ноги и выписывая по двору кренделя, пошел туда — чтобы вовремя поймать за руку старого Пафнутьича. Тот имел свое понятие о княжьем выезде и норовил навешать на конскую сбрую лисьих хвостов. Ладно бы возок был новенький и красивый! Но возок, уцелевший в передрягах Смуты, выглядел так, словно на нем черти из леса дрова возили. Лисьи хвосты при нем — курам на смех. Будет, конечно, приобретен новый, но не сейчас — сейчас все деньги идут на восстановление двора, и Чекмай мог с точностью до полушки сказать, что и почем куплено.