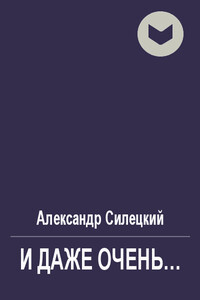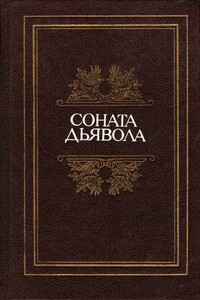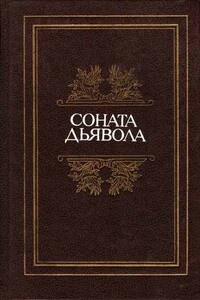― Пройдите по тому коридору и подождите меня где—нибудь в холле, ― сказал режиссер и с видом очень занятого человека помчался в буфет покупать сигареты.
Мартын Еврапонтьевич Васильков с уважением посмотрел ему вслед. «Большой человек, ― подумал он, ― небось, кажный день с екрану говорит. Это не то, что картошку в огороде сажать. Большой человек».
Одернув полы старенькой, но еще крепкой флотской тужурки с потускневшими галунами ― как лихо он выглядел в ней лет эдак сорок пять назад! ― Мартын Еврапонтьевич смиренно прокашлялся и отправился в холл. Полосатые брюки «клеш» неслышно подметали пол, укрывая до блеска вычищенные каблуки, и приятно шелестели, будто совсем недавно купленные. Впрочем, Васильков их почти и не носил ― разве что только по большим праздникам…
Сев в уголку на краешек разлапистого кожаного кресла, он еще раз кашлянул и замер, весь превратившись в терпеливое ожидание. Вид большого зала с неудобными низенькими столиками, толстыми коврами на полу, с красивыми мраморными колоннами и массой хрустальных светильников на стенах, бессчетное количество озабоченных лиц, снующих туда—сюда через холл и по коридорам, огромные надписи «Внимание, идет передача!», которые праздничными лозунгами алели над массивными черными дверями, ― все это приводило его в состояние трепетного смущения, и потому он растерянно, чуть просительно улыбался, точно извинялся неизвестно перед кем за то, что вот сейчас он здесь сидит и все такие занятые, и он вдруг может кому—то помешать…
Когда кто—то случайно оказывался особенно близко от него, он немедленно вскакивал, вежливо кланялся и торопливо приглашал:
― Садитесь, пожалуйста.
Незнакомые люди ― кто косо, с подозрением, а кто снисходительно ― глядели на него и, даже не поблагодарив, проходили мимо, чтобы исчезнуть за поворотом коридора либо, напротив, деловито усесться в соседние пустые кресла. Васильков вздыхал и, теребя в руках сигарету «Прима», тоскливо соображал, можно здесь курить или нет. Никаких запрещающих табличек он не видел, но это еще ничего не значило…
Честно говоря, Василькову до смерти уже надоели все эти городские мытарства. Он до сих пор не мог понять, почему же вдруг его вызвали из далекой деревни, и вот теперь он, как какой—нибудь знаменитый начальник, будет выступать по телевидению. «Ишь ты, ― сокрушенно качал он головой, ― с екрана буду говорить… Да нешто я сумею? Тут все такие важные… Куда мне до них?!»
Мартын Еврапонтьевич давно, сколько помнил себя, сажал в огороде картошку. Каждую осень собирал урожай, а на следующий год снова сажал ― и опять собирал…
И вдруг, пожалуйста, вырастил чудо! Сам бы он его и не заметил, да, к счастью, подвернулся дачник, какой—то маститый ученый, залетевший в глубинку отдохнуть от столицы.
В тот день он помогал Василькову перекапывать огород ― до будущего года. И тут ― ведь надо же! ― лопата ученого вместе с землей подцепила залежалый клубень. Клубень был большой, мясистый и весь испещрен глубокими неровными бороздами. «Подгнил, наверное», ― решил Васильков и хотел уж было выбросить его, но ученый поспешно замахал рукой:
― Нет, нет, погодите!
Он бережно, как новехонькую сторублевку, взял в ладони клубень и долго разглядывал его.
― Похоже на мозг, ― бормотал он, впиваясь взглядом в каждую извилину на его поверхности. ― Вы только посмотрите, это же точная копия мозга! Правое, левое полушарие, лобная часть… Прямо наваждение!..
Всю ночь после этого события ученый глаз не сомкнул, расхаживал по комнате, разговаривал сам с собой, что—то писал, засветив керосиновую лампу, а рано утром, едва солнце взошло, помчался на станцию, купил билет и в тот же день укатил в Москву. А уже неделю спустя Мартын Еврапонтьевич вдруг получил телеграмму ― просили оставить все дела и немедленно выезжать. Телеграмму привезли из центра на мотоцикле, так что дело, по всему, складывалось нешуточное. Да и на бумажке сверху синим карандашом было выведено: «Срочная».
Сначала Васильков, само собой, разволновался: как же это так, ехать неизвестно зачем, за тридевять земель, к незнакомым людям, вдруг, сразу? ― но, перечитав в телеграмме последнее слово «встретим», быстро успокоился и уже на следующий день отбыл в столицу. Его и вправду встретили: к вагону на перрон явились трое солидных мужчин, и среди них ― тот самый ученый, недавний дачник. Они по очереди пожали Василькову руку, заботливо справились о здоровье, затем подманили носильщика с тележкой и загрузили его васильковским чемоданом, велев тотчас катить на привокзальную площадь и занимать такси.
Мартын Еврапонтьевич никогда не бывал в Москве, разве что видел ее на картинках. Сидя в машине, он все время ерзал, поминутно прилипая к окну, и спрашивал, спрашивал…
Шофер насмешливо смотрел на него ― ох, и глухомань же ты, браток! ― и снисходительно отвечал: «Не знаю. У меня теперь другие интересы».
С учеными заговаривать Васильков опасался. Его поместили в гостиницу ― в огромный дом на широком проспекте. Первый день Мартына Еврапонтьевича никто не донимал и не тревожил. Но громадный город своим оголтелым ритмом, грохотом, сиянием реклам, своими стеклокаменными мертвыми фасадами наполнял душу Василькова таким благоговейным страхом, что Мартын Еврапонтьевич так и не решился выйти на улицу и весь день просидел у окна, грустно глядя на нескончаемые потоки занятых людей и блестящих автомобилей.