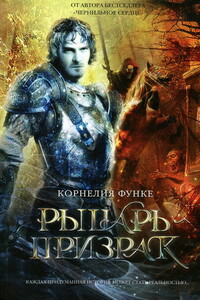Мне было одиннадцать, когда моя мать отправила меня в интернат в Солсбери. Да, положим, когда она привезла меня на станцию, у нее в глазах стояли слезы. Но в поезд-то она меня все равно посадила.
— Как бы порадовался твой отец, узнав, что ты будешь ходить в его старую школу! — сказала она с вымученной на губах улыбкой, а Бородай так бодро похлопал меня по плечу, что я готов был столкнуть его за это на рельсы.
Бородай… не успела моя мать в первый раз привести его к нам домой, как мои сестры тотчас же залезли к нему на колени. Я же объявил ему войну, едва он положил руку на мамино плечо.
Мой отец умер, когда мне было четыре года, и мне его, естественно, не хватало, хотя я его почти не помнил. Но это совсем не значило, что я хотел другого и, уж конечно, не какого-то там небритого зубного врача. Мужчиной в доме был я, защитник моих сестер, предмет забот моей мамы. И вот ни с того, ни с сего она больше не сидит со мной по вечерам перед телевизором, а ходит на свидания с Бородаем. Наш пес, всякого другого гнавший с нашего участка взашей, приносил к его ногам резиновые игрушки, а мои сестры рисовали ему огромные сердечки.
— Ах, Йон, ведь он такой милый! — без конца выслушивал я.
Милый… И что в нем было милого? Он убедил мою мать, что все, чем я любил полакомиться, было для меня вредно и что я слишком много смотрел телевизор.
Чтобы избавиться от Бородая, я испробовал поистине все. Тысячу раз исчезал ключ от дома, который дала ему мама; на его стоматологические журналы (да-да, есть и такие) выливалась кока-кола. В воду для полоскания, которую он постоянно рекламировал, подмешивался порошок, вызывающий зуд… Но все было напрасно. В поезд мама сажала меня, а не его. «Никогда нельзя недооценивать своих врагов!» — позднее научит меня Лонгспе. Но тогда, к несчастью, я еще не был с ним знаком.
Решение о моем изгнании было принято, вероятно, после того, как я уговорил мою младшую сестренку ложку за ложкой вылить кашу в башмак Бородая. А может быть, виной тому было также объявление о розыске террориста, куда я поместил его фотографию. Как бы то ни было… я готов был проиграть все мои видеоигры, поспорив, что эта идея с интернатом принадлежала ему, Бородаю, пусть даже моя мать отрицает это до сих пор.
Мама, разумеется, предложила доставить меня в мою новую школу лично и провести в Солсбери пару дней — «пока ты не освоишься», — но я это ее предложение отверг. Я был уверен, что она просто хотела успокоить свою совесть, — ведь они собирались лететь с Бородаем в Испанию в то самое время, как я один-одинешенек сражался бы с незнакомыми учителями, некачественной интернатской едой и с моими новыми однокашниками, большинство из которых наверняка окажутся сильнее и гораздо умнее меня. Ни разу я не бывал отлучен от моей семьи дольше чем на одни выходные. Я не любил спать в чужих кроватях и уж совершенно точно не испытывал никакого желания ходить в школу в городе, которому больше тысячи лет и который этим к тому же гордится. Моя восьмилетняя сестра с удовольствием бы со мной поменялась. С тех пор как она прочла «Гарри Поттера»,[1] она непременно хотела в интернат. Мне же мерещились дети в отвратительной школьной форме, которые сидели в мрачных залах перед мисками с водянистой кашей и которых стерегли учителя с палками метровой длины.

По дороге на станцию я не проронил ни слова. Я даже не поцеловал мать на прощание, когда она подняла мой чемодан в вагон, из страха предстать перед Бородаем существом, по-детски распустившим нюни. Время в пути я потратил на склеивание из обрезков газет шантажирующих писем, грозивших Бородаю самой позорной смертью в случае, если он не оставит мою мать в покое. Пожилой господин, сидевший рядом, наблюдал за мной со все возрастающей тревогой в лице, но в результате я выбросил письма в туалет, сказав себе, что мама наверняка догадалась бы, кто их автор, и после этого только еще больше стала бы предпочитать мне Бородая.
Знаю, я был в состоянии, достойном сожаления. Поездка продолжалась один час и девять минут. С тех пор прошло уже больше восьми лет, а я, несмотря ни на что, помню все еще очень точно. Клэпхем-Джанкшен, Бастингстоук, Андовер — все станции были на одно лицо, и с каждой милей я казался себе чем дальше, тем более отверженным. Через полчаса я уничтожил все плитки шоколада, которые мне дала с собой мама (насколько я помню, девять: у нее, должно быть, были сильные угрызения совести), и всякий раз, когда я смотрел в окно поезда и все расплывалось у меня перед глазами, я убеждал себя, что причиной тому не слезы, а капли дождя, бежавшие по стеклу.
Я же говорю: я был в состоянии, достойном сожаления.
Когда в Солсбери я вытаскивал чемодан из поезда, я ощущал себя отвратительно маленьким и в то же самое время на сто лет постаревшим по сравнению с моментом отъезда. Изгнанным. Отверженным. Без матери, без сестер и без пса. Да будет проклят Бородай! Отдавив себе чемоданом ногу, я обратил страстную молитву к преисподней, чтобы отыскалась в Испании какая-нибудь заразная болезнь, смертельная для стоматологов.
Предаваться ярости было куда приятнее, чем сожалеть о своей потерянной жизни. Кроме того, ярость служила надежной защитой от посторонних взглядов.