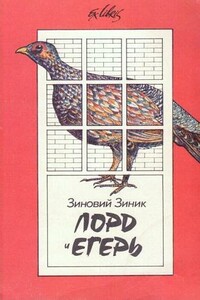Брак с иностранкой и соответственно эмиграция в басурманские земли не проходят безнаказанно: его мутило и выворачивало наизнанку от изжоги. Поступки, которые варганил ненасытный рассудок, отвергались привередливым желудком. Желчь подымалась по пищеводу, напалмом сжигая все на своем пути, и едкая гарь пожарища в груди темнила очи. Все кругом показалось ему омерзительным: английская лужайка, выстриженная по-военному, ежиком; английская садовая мебель — эти пыточные по своему неудобству железные стулья и шатающийся столик, выкрашенные по-больничному белой краской; и панически выглядывающее из-за туч английское солнце, явно страдающее манией преследования; и, наконец, английские лица, белые и безглазые, как огромные поганки на зеленой до оскомины могильной траве, - их приятно сковырнуть походя носком резинового сапога или сшибить прутом орешника.
Костя рыгнул, не потрудившись прикрыть рот ладошкой. И тут же перехватил осуждающий взгляд жены и хозяйки дома, Нуклии. То есть звали ее Клио, но в его раздраженном мозгу она проходила под кличкой "Нуклия", поскольку вот уже который год с ее языка не сходила "нуклия бомб", то есть ядерная бомба.
Нуклия была воинствующей пацифисткой. Но сейчас готова была прикончить своего русского мужа, стереть с лица земли ядерным взрывом третьей мировой войны, если бы только можно было ограничить конфликт территорией, оккупированной кишками ее рыгающего супруга. Вместе с этим ядерным ударом по супругу исчез бы, однако, с лица земли и плод ее многолетних усилий мирного времени — четырехкомнатный домик за спиной, четырехметровый задний дворик, на лужайке которого они и сидели. Конечно, дом был не ахти каких размеров, и, когда Костя отправлялся в туалет на втором этаже (Клио безуспешно настаивала на том, чтобы он называл уборную "туалетом", а не этим омерзительным псевдофранцузским словом "сортир"), дверь в гостиную внизу приходилось плотно прикрывать: он издавал чудовищные звуки во время естественных отправлений, как будто в животе у него происходил ядерный взрыв. Да что тут говорить о продолжительных сессиях в местах уединенных размышлений, когда по ночам на супружеском ложе она просыпалась от бурчания у него в желудке. И неудивительно. Эти тонны освежеванной баранины, говядины и свинины, эти итальянские, закрученные в бычьи кишки колбасы и всякие салями, эти почки и вымя, и гусиные шейки и куриные пупки — перед глазами Клио вставали апокалиптические караваны обезглавленных коров, баранов со вспоротыми животами, птиц со свернутыми шеями, все они блеяли, мычали и ревели, и все эти звуки сливались в единое бурчание костиного желудка. Костя же сидел с руками, вымазанными в крови и рыгал.
"Выпей бикарбонат кальция", - сказала она по-английски, но Константин сделал вид, что не слышит. Или не понял: его скромные познания в английском проваливались бесследно куда-то в прямую кишку, когда она ему говорила что-то неудобоваримое для его интеллекта. Неудивительно, что Константин стал ужасно груб и непредсказуем. Главное, непредсказуем: он проигнорировал ее совет насчет бикарбоната кальция, и Клио пыталась угадать, какую выходку он предпримет, чтобы ублажить свой желудок в духе своих варварских наклонностей. В свое время он ведь настаивал, что во время крупных обедов надо следовать заветам французов и древних римлян, а именно: блевать после каждого третьего блюда для облегчения желудка и, следовательно, души, поскольку тело и душа едины. Слава Богу, на этот раз меню торжественного обеда, в честь первого визита Марги и Антони в новый дом, не превышало стандартных четырех блюд.
В качестве "стартера", то есть закусок, Клио подавала вареный артишок с чесночным майонезом. Но Костя заявил, что вареных овощей терпеть не может, забыв о своем московском пристрастии к вычитыванию французских кулинарных рецептов у Марселя Пруста, нафаршированного артишоками на каждой странице. Зато Константин уплел самолично чуть ли не всю майонезную подливку, макая в нее хлеб. Хлеб пришлось подавать из-за него в гигантских количествах, так что практически не хватило на сыры в конце обеда — а за этими французскими батонами ей пришлось тащиться после работы в специальную булочную в Ковент Гардене, не говоря уже о тройной цене экспортных батонов. Константин же пожирал эту хрустящую экзотику, как будто это был обыкновенный английский хлеб в пластмассовом пакете из супермаркета. Он вообще ел хлеб не переставая, ничего не мог есть без хлеба — не выпускал ломоть из рук, как будто у него этот кусок кто-то собирается отнять, и в результате одна рука у него всегда была занята, как раз та рука, которая предназначена для того, чтобы держать нож во время еды. Может быть, поэтому Константин не пользовался во время еды ножом. В результате ему приходилось отрывать зубами пищу прямо с вилки, и, чтобы не уронить поддетый на вилку кусок, он склонялся над тарелкой как будто в приступе рвоты.
Клио отворачивалась весь обед. И главное, есть же у него обоюдоострый нож, она точно знает, он держит нож для своих особых целей, ей пока неведомых, явно не для еды. Клио передернула плечами. Неумеренное потребление хлеба она еще как-то может оправдать наследием российского прошлого Константина многовековым голодом и мором. Но он отказался и от главного блюда, овощного рагу с морковкой, обваренной в кипятке цветной капустой и вареными помидорами. Сказал: "В Англии, вроде, нет на данный момент эпидемии холеры, чего помидоры в кипятке вымачивать?" Тогда почему, спрашивается, он игнорировал приправу из сырого сельдерея, грецких орехов и моченого ячменя? И так весь обед. Причем знает же, с какой тщательностью она вымачивала ячмень, учитывая придирчивость в этих вопросах Марги и Антони.