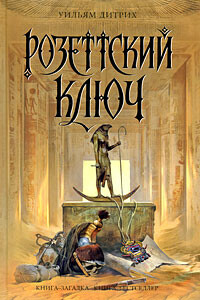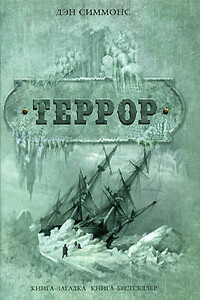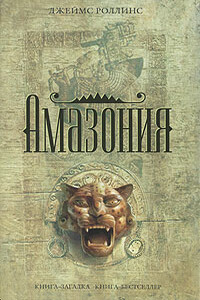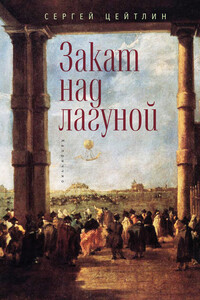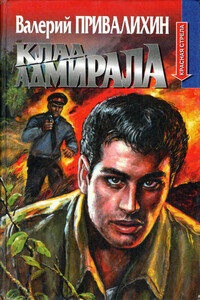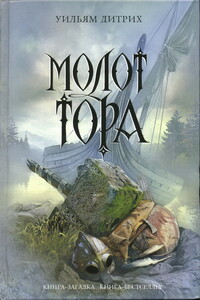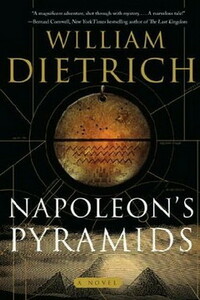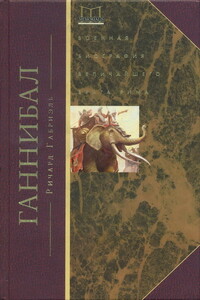При виде множества нацеленных в грудь мушкетов волей-неволей задумаешься, не сбился ли ты с праведного пути. И я действительно задумался об этом, глядя на ружейные дула, казавшиеся огромными, как разинутая пасть дворняги, бегающей по каирским улицам. Но нет, грехи мои ничтожны, более того, я уверен в своей правоте, а вот французская армия, на мой взгляд, сбилась-таки с праведного пути. И я мог бы объяснить это моему бывшему союзнику, Наполеону Бонапарту, если бы он не находился за пределами слышимости, на прибрежных дюнах, с отчужденным и раздражающе рассеянным видом подставив свои блестящие пуговицы и награды лучам средиземноморского солнца.
Первый раз я оказался на одном берегу с Бонапартом, когда он высадил свою армию в Египте в 1798 году, и тогда он поведал мне, что нынешним утопленникам предначертана вечная слава. И вот спустя девять месяцев с момента той высадки в палестинской гавани Яффы к вечной славе уже собирались приобщить и меня самого. Французские гренадеры готовились пустить в расход несчастных мусульманских пленников, а заодно с ними и меня, и в очередной раз я, Итан Гейдж, пытался придумать, как бы мне обмануть злополучную судьбу. Близился, видите ли, момент массовой казни, а мне как раз удалось навлечь на себя сильное недовольство генерала, с которым мы когда-то едва не подружились.
Как далеко зашли мы оба за короткие девять месяцев!
Я спрятался за спиной самого здоровенного, на мой взгляд, чернокожего пленника с Верхнего Нила, прикинув, что только в его мощном торсе может застрять мушкетная пуля. Всех нас согнали подобно стаду на этот пустынный берег, на темных лицах поблескивали лишь белки округлившихся глаз; красные, кремовые, изумрудные и синие краски мундиров почти не просматривались под пятнами крови и копотью — следами недавнего варварского нападения на город. В толпе пленных с турецкими сержантами соседствовали гибкие марокканцы, высокие и суровые суданцы, агрессивные албанцы, черкесские кавалеристы и греческие пушкари — разнородные рекруты обширной империи, посрамленной французами. И в эту компанию угораздило попасть также одинокого американца, вашего старого знакомого. Не только меня озадачивало их непонятное встревоженное ворчание — даже сами они зачастую не понимали друг друга. Военнопленные столпились на берегу, их офицеры уже погибли, и этот беспорядок поразительно контрастировал с четкими рядами наших палачей, выстроившихся как на параде. Вызывающее поведение турок разъярило Наполеона (им не следовало насаживать головы французских послов на пики), а множество голодных пленников стало бы непомерной обузой для его вторжения. Поэтому нас вывели из апельсиновой рощи на песчаный полумесяц берега, окаймленный изумрудно-золотистыми, поблескивающими на мелководье волнами, на южной окраине захваченного порта, куда не долетал дым со стороны горящего на холме города. Я видел зеленые плоды, чудом уцелевшие на опаленных обстрелом деревьях. Мой прежний благодетель и недавний враг, сидевший на своей лошади подобно молодому Александру, готов был (по причине отчаяния или излишней расчетливости) проявить дикую беспощадность, о которой подчиненные ему командиры будут еще долго шептаться на протяжении многих военных кампаний. Однако он даже не счел нужным удостоить устроенную им бойню своим вниманием, а увлеченно читал очередной мрачный роман из своей полевой библиотечки, по привычке стремительно пробегая взглядом по книжным страницам, затем вырывая прочитанные и раздавая их своим офицерам. Босоногий и окровавленный, я топтался на берегу всего в каких-то сорока милях от того места, где умер ради спасения нашего мира Иисус Христос. Последние несколько дней преследований, перестрелок и пыток отнюдь не убедили меня в том, что усилия Спасителя по улучшению человеческой натуры увенчались заметным успехом.
— Готовьсь!
Множество мушкетных курков было разом взведено.
Сторонники Наполеона обвинили меня в шпионаже и предательстве, потому-то я и оказался среди прочих пленников на берегу близ Яффы. И более того, по стечению обстоятельств в таком обвинении имелось зерно правды. Но изначально, по крайней мере, я и не помышлял ни о какой измене. Я жил в Париже как простой американец, чьи знания в области электрических сил — и необходимость спасения от совершенно несправедливого обвинения в убийстве — привели к тому, что год назад меня приняли в компанию именитых ученых, трудившихся в Египте во время его ошеломительного завоевания Наполеоном. Я также проявил изрядную изворотливость, попадая в самые опасные переделки. Меня пытались отправить на тот свет мамелюкские кавалеристы, любимая женщина, арабские головорезы, бортовые залпы британских пушек, мусульманские фанатики и французские гусары, но вообще-то я вполне миролюбивый и славный парень!
В роли моей самой последней французской Немезиды выступил закоренелый мерзавец Пьер Нажак, убийца и вор, упорно стремившийся отомстить мне за то, что в прошлом году я ранил его в окрестностях Тулона, когда он пытался отнять у меня священный медальон. Это долгая история, достоверно описанная в предыдущей книге. Нажак вновь ворвался в мою жизнь подобно разъяренному кредитору и теперь злорадно наблюдал, как я тащусь в толпе пленных, подгоняемой саблями кавалерии. Он предвкушал мою близкую кончину с тем же чувством торжества и ненависти, какие испытывает человек, умудрившийся раздавить на редкость омерзительного паука. А мне оставалось лишь сожалеть, что в свое время я не прицелился чуть повыше и на пару дюймов левее.