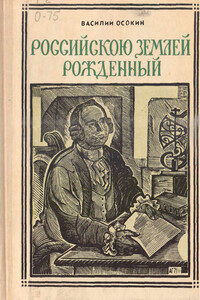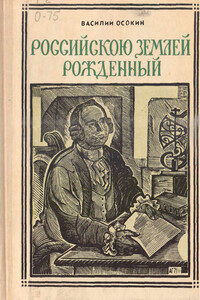ГЛАВА ПЕРВАЯ
У моря Студеного
Что зыблет ясный ночью луч?
Что тонкий пламень в твердь разит?
Как молния без грозных туч
Стремится от земли в зенит?
— И еще одно диво-предивное водится, Михайло, в море-окияне. То не морж, не кот морской, и нет у него имени. Ох-ох-ох! Голова петушья, тело змеиное, хвост рыбий, самоцветами переливается. Кто повстречает его — не доплывет до берега.
Мальчонка лет шести, с румянцем во век, щеку, слушает старуху, раскрыв рот. Они чинно сидят на широкой скамейке у дома. Но вот в глазах мальчика — недоумение.
— А кто сказал про петушью морду… раз до берега не доплыл?
Старуха растерянно замолкла. В самом деле… Вот ведь смышленым! И в кого такой: мать — тихая, отец — тоже молчок. В отцова дядю, должно, в двинского земского старосту Луку Ломоносова; тот, говорят, проныр.
Она треплет малыша по тугой, как слива, щеке. Что может она ему ответить? Вот муж нашел бы что сказать. Да он, поди уж, лет двадцать, как не вернулся со Студеного моря.
Мальчик отходит недовольный, упрямо насупившись. Какая еще там петушья морда? Встретиться бы! Уж он покажет ей — гарпуном в самый гребень попадет! И до самого Куроострова ее дотянет! То-то Пронька Леонтьев от зависти лопнет!
— Михайло! Ко трапезе! — строго зовет отец, приоткрыв дверь. — Опоздаешь — без обеда останешься.
Мальчик нехотя поднимается на крыльцо. В сенях на стене рукомойник. Вода обжигает, зато руки ух как хорошо вытереть потом холщовым полотенцем!
В просторной горнице вокруг длинного стола все сидят молча. С одного конца — сам хозяин Василий Дорофеевич. Лицо, как из меди, покрыто вечным загаром. В бороде редкие нити седины. Справа брательники — товарищи по промыслу. На скамье у окна — мать, Елена Ивановна. У нее тяжелая золотистая коса, искусно упрятанная в повойник[1]. Михайло в нее: круглолик, кареглаз, кровь с молоком.
Отец широко крестит стоящую посредине стола большую, расписанную цветами деревянную мису с дымящейся ухой. Мать разливает по тарелям. Василий Дорофеевич поднимает ложку, пробует — можно начинать остальным.
Других кушаний на столе нет. Зато ухи и хлеба ешь вволю. Всяк бери соль из солоницы, такой же узорной, как и миса.
Кусков хлебных недоеденных не оставлять! Отец Михайле ничего не скажет, а его же ложкой огреет по лбу. Подрастешь, узнаешь, каков крестьянский труд!
Пообедав, все расходятся кто куда. Отец с рыбаками-брательниками на повети[2], чинить, готовить снасти; мать, убрав посуду, достает из окованного сундучка шитье и подсаживается поближе к лиловатому слюдяному оконцу, струящему лучики света.
Михайло просится погулять.
— Ну что ж, поди, пока светло и тепло, — ласково говорит мать.
Он выходит на крыльцо. Мягкий ветер овевает лицо, приносит сладкие запахи хвои, тающей земли… Мальчик снимает варежки, обнимает сухую шершавую балясину, подпирающую верх дома, прислоняется к ней щекой.
По суровой двинской земле, по Куроострову идет весна. Прозрачно зеленоватое небо. Набухают пушистые почки верб. Четче рисуется остроконечная кровля поповского дома.
Вот дорога в Холмогоры — богатое торговое село, куда Михайлу брали уже не раз на базар и где живут мастера-сундучники.
А вон древний темный Ельник — кладбище, на нем давным-давно хоронили каких-то колдунов. Михайло не боится, он даже один, совсем один пойдет, вот только просохнет, посмотреть, что там такое.
Он мечтает и о том, что скоро поплывет с отцом по речке Курополке на Налье-остров, где у них своя пожня[3]. На острове высокая-превысокая трава и очень много маленьких разноцветных птичек с гребешками, как у петушков. Зовут их турухтанами. Они все время пищат и перелетают с места на место. А еще там водятся смешные птицы — бекасы, носы у них длинные-предлинные. Михайло целый день готов гоняться за ними, пока родные косят на пожне.
Сейчас на берегу Курополки лежит на боку чье-то недостроенное судно, похожее на остов гигантской рыбы. Мальчик по-хозяйски осматривает корабль. У них тоже будет такой, больше этого! Скорей бы! Отец обещал взять с собой на Студеное море.
* * *
В 1714 году царь Петр Первый издал указ, который обязывал архангельских рыбаков, что «ходят в море для промыслов своих на лодьях и кочах», делать прочные морские суда — «галиоты, гукоры, каты, флейты, кто из них какие хочет».
Царев указ выполнялся плохо. Белое море, Ладожское и Онежское озера по-прежнему бороздили небольшие, зачастую ветхие суденышки архангелогородцев. Во множестве гибли они в бури или разрушались настолько, что требовали починки. Из-за этого хлеб, рыба, соль не попадали в гарнизоны крепостей на побережьях.
В 1719 году разгневанный царь издал новый указ. Он повелел «переорлить» все старые суда: поставить на них государственные клейма с изображением двуглавого русского орла. Отныне ходить в море разрешалось на заорленных лодках и кораблях лишь самое малое время — месяц, не более. А «кто станет делать после сего указу» такие же, тех «с наказаньем сослать на каторгу и суда их изрубить».