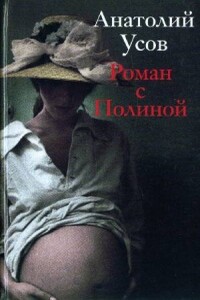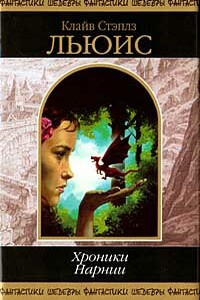Перед тем как я родился, моя бабушка, учительница начальных классов, видела вещий сон — кто-то темный и сильный явился к ней после полуночи и сказал устало и горько:
— Свершилось. У вас, Анастасия Игнатьевна, родился внук.
— Ой, как хорошо, — будто бы обрадовалась моя бабушка, — внучонок мой родненький…
Тот расхохотался и объявил:
— Рано радуетесь… ох, и намучаетесь вы с ним.
Так я появился на свет, не видя в этом ничего хорошего, но поначалу и ничего плохого.
Кто это был, бабушка?.. На что походил?.. Ты об этом никому не сказала.
Я прочитал в журнале об одной незаурядной семье, о том, как они писали картины, сочиняли гимны, снимали кино, и подумал — вот кто имеет право хоть сто раз жениться и иметь хоть шестьсот детей, как какой-нибудь царь Соломон.
А я разве имею право? Какая у меня генетика? Нет никакой. Дядя, в честь которого меня назвали, — ему оторвало ногу бульдозером, и он умер в страшных мучениях; вот какая моя генетика. Остальные, кого я только ни вспоминал, крепко, до одури, пили. Иные даже умирали от пьянства.
Таких, как я, следует оскоплять в детстве — вот что подумал я о себе. А девочек, которые почему-то полюбят нас, искусственно оплодотворять от тех, кто умеет писать картины, сочинять гимны, снимать фильмы, красиво рассказывать о себе, — вот тогда и станет у нас держава, могучее мудрое и трезвое государство мира с замечательным, трудолюбивым народом.
Поэтому я никогда не женюсь и не буду иметь детей. Я не треска, не Додик, не Иванушка-дурачок, я живу государственными интересами и забочусь о будущем. Я закрыл свои блеклые зенки, одно из которых было у меня голубым, а другое почему-то зеленоватым, и увидел радостную картину: корабли с иммигрантами плывут к нам со всех континентов… все, кто бежал, чтобы сладко кушать с чужого стола, возвращаются, как блудные дети — все умы, все таланты — сладкая еда теперь у нас, они бухаются на колени, мы гладим их заблудшие головы, и счастье от всеобщей любви вырастает над нами, как ядерный гриб… Я вышел на кухню и выпил по этому поводу чуть-чуть «кончаловки». Закусывать я не стал, зачем портить такой прекрасный момент?
Ах, Полина, почему ты не любишь меня? Разве я не хороший?..
Конечно, будь у меня хоть одно достоинство… Пусть самое маленькое. А лучше большое, как у брата полковника Аурелиано Буэндиа.[1] Тогда бы ты не так на меня смотрела, моя дорогая малышка. Тогда все красавицы мира искали бы дружбы со мной. Я тут же представил, как все это выглядит: у них от меня рассыпаются кости и пахнет тиной… это выглядело, дорогие братки, красиво… Действительность же убога, у меня нет никаких достоинств. А то, что есть, трудно сравнить с тем, что хотелось иметь…
Я пошел на кухню и выпил по этому случаю «Смирновки из Черноголовки». Закусывать, конечно, не стал, зачем мешать удовольствию? Чудесный напиток вошел в мои ноги, им стало тепло и чуть-чуть вяло, как будто они мне совсем не нужны, как будто у меня есть за спиной крылья, я могу ими взмахнуть и полететь куда захочу.
Мои дремучие предки собирались то ли в Турцию, то ли в Китай и тихонечко переругивались между собой. Вот уж совершенно никчемные люди. Папан — астроном, доктор наук. Махан тоже успела подсуетиться и защитить докторскую при прежнем режиме, вы не поверите мне — по научному коммунизму! А коммунизм тут же накрылся тяжелой задницей капитализма. Однако из-за них я тоже окончил универ и стал таким же никчемным придурком.
— О, ты уже встал! — обрадовался мой папан. — А мы с мамочкой уезжаем, надо немножко заработать денежек на учебный год.
Он всегда бодрится и делает вид, что большой весельчак. Хотя он нормальный, даже немножко умный и грустный мужик, но махан велит ему быть веселым, она, как все преподаватели научного коммунизма, исповедует оптимизм, и бедный мой старичок из последних сил всю жизнь старается перед ней. Махан потянула своим длинным собачьим носом и сказала, что чем-то пахнет. Я тоже принюхался и сказал:
— Здесь пахнет паршивым дерьмом из редьки.
— Ты уже выпил? — ужаснулась махан, тараща серо-зеленые, как редькина кожура, оловянные пуговицы.
— Кто выпил?! — заорал я. Другой язык эта дура не понимает, ибо сама всю жизнь так же орет. Я подошел и как дыхну в самую рожу. Она зажмурилась от страха и ничего не учуяла. Я этот момент здорово отработал.
— Ну, какая ты, Дуся… — робко сказал папан.
— Это ты какой! — заорала она. Она свой момент тоже здорово наработала. Умела сорвать на старике зло. Меня-то она боялась, а его нет. Старик повалил на кухню пить валокордин, у него не было никаких моментов.
Она тащилась за ним по пятам и орала, белея от злости:
— Ты поговорил с ним хоть раз, как мужчина!? Ты не мужик! Ты ничтожество! Ты был ничтожеством, ты ничтожеством и остался!
«Треснул бы ты ее разок по тупой башке», — хотелось мне сказать моему любимому старикану, мне было его почему-то жаль: большой, красивый мужик и никакого понятия, как надо жить на земле. А она низенькая страшная стерва, но с полным понятием, как править свой маленький бал.
Если бы я был такой же красивый, как мой отец, не так бы, Полина, мы с тобой разговаривали. У него черные волосы и синие, как небо, глаза. «Большие люди почему-то слабее маленьких», — подумал я и посмотрел на себя в зеркало, мне стало грустно, ведь я тоже большой, метр девяносто шесть.