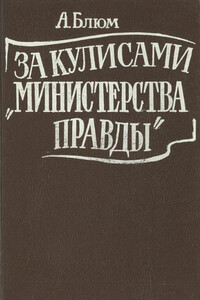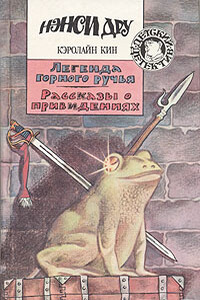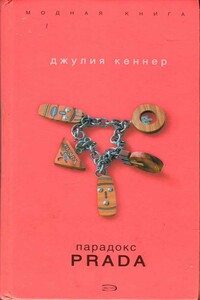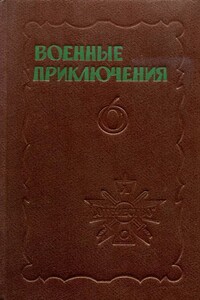1.
Как тяжко утратить родину… И как невыносима мысль о том, что эта утрата, может быть, состоялась навсегда… Для меня навсегда, ибо я, может быть, умру в изгнании…
От этой мысли все становится беспросветным: как если бы навсегда зашло солнце, навсегда угас дневной свет, навсегда исчезли краски дня… и никогда больше не увижу я цветов и голубого неба… Как если бы я ослеп; или — некий голос грозно сказал бы мне: «больше не будет радостей в твоей жизни; в томлении увянешь ты, всем чужой и никому ненужный»…
Кто из нас, изгнанников, не осязал в себе этой мысли, не слышал этого голоса? Кто не содрогался от них?
Но не бойтесь этого голоса и этого страха! Дайте им состояться, откройте им душу. Не страшитесь той пустоты и темноты, которые прозияют в вашей душе. Смело и спокойно смотрите в эту темноту и пустоту. И скоро в них забрезжит новый свет, свет новой, подлинной любви к родине, к той родине, которую никто и никогда не сможет у вас отнять. И тогда вы впервые многое поймете и многое вам откроется. И ваше изгнанничество перестанет быть пассивным состоянием; оно станет действием и подвигом; и свет не погаснет уже никогда.
Я помню, как осенью 1922 года, в Москве, когда «вечное изгнание под страхом расстрела» было уже объявлено мне и оставались одни формальности, ко мне пришел проститься один из приятелей и произнес мне надгробное слово: «Вы», говорил он, «конченый человек; вы неизбежно оторветесь от России и погибнете… Что вы без родины? что вы можете без нее сказать или сделать? Уже через несколько месяцев вы не будете понимать того, что здесь совершается, а через год вы будете совсем чужды России и ненужны ей… Иссякнут ваши духовные родники… И вы станете несчастным, бесплодным, изверженным эмигрантом!»…
Я слушал и не возражал ему: он не видел дальше «пустоты и темноты»; он думал, что родина исчерпывается местопребыванием и совместным бытом; его патриотизм питался повседневностью; его любовь нуждалась в ежедневном подогревании; «русскость» его души была не изначальной, а привитой; он видел Россию не из ее священных корней; и судил обо мне по себе. И, зная это, я не надеялся поколебать его в прощальной беседы…
Мы, русские, мы, белые, все мы, вынужденно оторвавшиеся от нашей родной земли, — мы не оторвались от нашей родины, и слава Богу, никогда не сможем оторваться от нее. Всмотритесь и вслушайтесь в «пустоту» нашей тоски и в «темноту» нашей скорби: ведь мы сами — живые куски нашей России; ведь это ее кровь тоскует в нас и скорбит; ведь это ее дух молится в нас, и поет, и думает, и мечтает о возрождении, и ненавидит ее врагов. Почувствуйте это: она в нас, она всегда с нами; мы слеплены из ее телесного и духовного материала; и она не может оторваться от нас, так же, как мы не можем оторваться от нее. И куда бы ни забросила нас судьба в нашем лиц дышит, и молится, и поет, и пляшет, и любит стихия нашей родины. И когда мы говорим, просто говорим, произносим русские слова, разв это не ее дивный язык (о, какой несравненный!) благовестит о ней и нам, и другим народам?..
Какие человеческие законы, какие бытовые уклады могут оторвать меня от моей родины, когда я, может быть, самый последний из ее сынов, соткан из нее, и изменить это мог бы только тот, кто переплавил бы всего меня заново? «Эмиграция», «изгнание» меняют наше местопребывание и, может быть, наш быт; но они бессильны изменить состав, и строение, и ритм моего тела и моего духа. Посмотрите, как мы, русские, узнаем друг друга по походке, выражению лица, по произношению, по улыбке по манере одеваться, — всюду, и в горах Тироля, и в Нью-Йорке, и на аванпостах африканской армии. Все чувства наши обострились в изгнании для всего, что наше. Ширью, легкостью, простотою, искренностью, добротою, глубиною чувства, мечтательностью, даровитостью, темпераментом наделила нас Россия, — и все это слагает особый аромат бытия и быта… И нам слава Богу, никогда не утратить этого!..
За «пустотою» и «темнотою», там, глубже — в каждом из нас скрыто некое сокровище, светящийся клад русского национального духовного опыта — религиозного, и нравственного, и художественного, и государственного. Убедитесь в этом, воззовите туда голосом скорби и внимайте ответу. Подумайте про себя, из глубины, сосредоточенно, молча: «светлая заутреня»; «всенощная»; «панихида»; «Сергий»; «Гермоген»; «Кремль»; «Куликово Поле»; «Пожарский»; «Киев»; «Москва»; «Петр»; «Пушкин»; «Гоголь»; «Достоевский»; «наша песня»; «наша армия»; «наши монастыри»; «Оптина Пустынь»; «коронование», — — и никогда после этого не говорите и не воображайте, что вы «оторвались» от родины…
От родины оторваться нельзя! Можно жить на свете, не найдя своей родины: мало ли их безродных теперь; всюду они мутят, желая привить другим свое убожество. Но кто раз имел ее, тот никогда ее не потеряет, разве только сам предаст ее и не посмеет покаянно вернуться к ней… А нам всем родина дала уже, дала раз навсегда, неумирающее и неистощающееся богатство, в нас самих укрытое, всюду нас сопровождающее, дар навеки…
Конечно, это верно: что я без моей родины, которая это